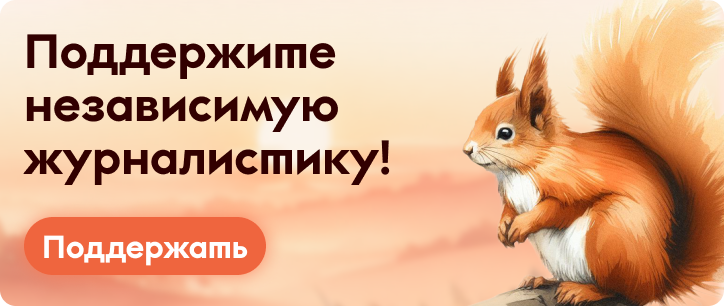Россияне участвуют в социологических исследованиях, часто не задумываясь о своей безопасности. Или они знают, что за честные ответы об антивоенной позиции им может грозить тюрьма — и на всякий случай декларируют поддержку власти. Это мешает независимым социологам проводить исследования, показывающие реальную картину происходящего. При этом опросы общественного мнения, проведенные по заказу властей, заставляют граждан верить в пропутинское большинство.
Анна Кулешова – социологиня, соосновательница ассоциации «Социальных исследователей без границ» и основательница исследовательской группы Social Foresight Group. Она рассказала «7х7» о работе социологов во время войны и как участникам опросов обезопасить себя.
Безопасность и риски для участников соцопросов
— Мы видим, что государство давит на научное сообщество в России, в том числе социологов. Это сказывается на безопасности и ученого, и тех, кто предоставил исследователю информацию о себе. Беспокоятся ли о своей безопасности сами респонденты, когда участвуют в социологических опросах?
— По моим наблюдениям, в среднем они достаточно легкомысленно относятся к ней. Крайне редко у респондентов появляются вопросы о безопасности. Чаще всего я им напоминаю о них и проговариваю возможные риски.
Обычно люди либо отказываются участвовать в опросе вовсе, либо безалаберно относятся к вопросам безопасности и могут общаться с псевдоцентрами. Им сказали, что это «Левада-центр», - они поверили. Услышали странный вопрос - подумали: «О, «Левада-центр» - дурачки работают!». Они не исходят из логики: если что-то кажется не очень нормальным и не очень безопасным, это с высокой вероятностью и является не слишком нормальным и безопасным.
Чистить кеш или под инкогнито заходить на опросные платформы им попросту не приходит в голову. По моим ощущениям, цифровая безопасность нередко оказывается на нуле.
— Почему так происходит? Респондентов не пугают риски?
— Люди спокойно отвечают отчасти потому, что им хочется поделиться своим мнением, рассказать о себе, продемонстрировать, что они существуют. Кто-то относится к опросам как к исполнению своего гражданского долга. Человеку хочется гордиться собой, не хочется скрываться, таиться. Но это не единственные мотивы. Люди еще и ленивы, им не хочется лишний раз копаться, кто и зачем проводит опрос. То есть опросы в их картине мира будто бы не могут быть частью кибермошенничества и иных схожих негативных практик, с которыми в 2023 году столкнулись 91% россиян.
Анна Кулешова. Фото из личного архива
— Как участие в исследовании может навредить? Бывали ли случаи, когда из-за ответов на соцопрос государство начинало преследовать респондента?
— На данный момент мы не можем сказать, что были случаи, когда силовики приходили к кому-либо после телефонного опроса или опросов, проведенных на российских платформах. Но также нельзя сказать, что исключены или невозможны связи между ответами на анкеты полгода или год назад и пристальным вниманием [пограничников] при прохождении российской границы.
Те, кто представляется социологами, но ими не является, делают это для каких-то целей. Например, известны случаи, когда просили в знак благодарности за опрос продиктовать номер карты, чтобы на нее потом перевести «гонорар». Но это достаточно мирный случай мошенничества, если сравнивать его с «опросом» с целью дальнейшего доноса.
— Информированное согласие – это согласие респондента на участие в исследовании и один из самых важных принципов исследовательской этики. Почему его получение небезопасно для респондентов из России? Регулируется ли этот вопрос какими-то российскими и международными стандартами?
— Да, в России при проведении опросов надо получать информированные согласия - запрашивать согласие респондентов, их фамилии, подписи. Многие международные научные журналы могут отказать в публикации статьи, если подобные согласия не получены.
Но представьте, что в нынешней ситуации вы ведете исследование среди россиян, несогласных с режимом, об их отношении к войне и запрашиваете у них подобный документ. Это может нести серьезные риски. Даже в ситуации, когда вы чрезвычайно внимательно и щепетильно относитесь к хранению данных, никто не может гарантировать, что утечка невозможна. Мы это видим на примере банков, крупных корпораций и других организаций. Исследовательские центры в этом плане не имеют какой-то суперзащиты, они тоже уязвимы. И тогда подобная информация становится синонимична чистосердечному признанию, если она оказывается в руках силовых структур.
Этические комиссии в разных странах и даже в рамках разных институций в одной стране могут немного отличаться. Кто-то может пойти навстречу и понять, что сейчас получение таких согласий несет в себе потенциальные риски. У заказчиков исследований очень разнятся представления о норме. Кто-то требует тотального соблюдения российского законодательства при проведении исследования на территории России. Кто-то считает, что исследователи должны находиться в России, если оно связано с россиянами. Другие, напротив, требуют, чтобы вся команда целиком находилась, ведя исследования по России, за ее пределами.
Сейчас многие центры, как зарубежные, так и российские, признают, что ситуация в России анормальная, но при этом говорят: «Пусть все идет как обычно, пусть все процессы будут стандартные, как мы привыкли, ничего менять и корректировать не будем». Это странно, потому что в ненормальной ситуации нормальной жизнью жить не получается. Это касается и исследований. Отвечать на вызовы времени и находить оптимальные решения - в первую очередь те, которые отвечают интересам респондентов, - очень важно.
— Как отсутствие стандартов по безопасности влияет на результаты исследования? Меняются ли ответы людей в зависимости от того, насколько безопасным они считают участие в исследовании?
— Да, если люди не считают участие в опросах безопасным, это может влиять на их участие или неучастие в исследованиях. Можно сказать, что сам режим, который установился в современной России, серьезным образом ограничивает исследования. И это важное ограничение.
Если за открытую неподдержку войны может грозить уголовный срок, это сказывается на ответах респондентов. Когда исследователи звонят на номер телефона, который связан с паспортными данными, банковскими картами, "Госуслугами", и спрашивают, поддерживает ли респондент войну и Путина, в ответ нередко слышат: «Да, конечно, поддерживаем». Это могут быть социально одобряемые ответы. Люди хотят спокойно пережить неспокойные времена, не хотят лишних проблем, они отвечают так, но думать при этом могут иначе.
Иллюстрация «7х7»
Если бы опросные организации прописывали ограничения исследования, то полученные ими данные были бы адекватнее прочитаны. Имеет значение только количество опрошенных, которое они публикуют, и то, что в нынешней ситуации исследователи с высокой вероятностью собирают социально одобряемые мнения. Колоссальное количество людей не принимает участия в исследованиях. Когда таких уточнений нет, а есть только проценты [поддерживающих], это может вводить читателей в заблуждение. Особенно остро это ощущается в тех случаях, когда данные российских опросных центров публикуются за рубежом, на иностранную аудиторию, которая далеко не всегда глубоко погружена в суть того, что происходит в России.
Еще важно информировать об источниках финансирования опроса. С точки зрения научной этики это принципиальный момент. Например, при выводе нового лекарства на рынок предварительно исследуют его. В ситуации, когда фармкомпания сама произвела медикамент, сама его протестировала на эффективность, сама опубликовала данные о том, какое лекарство вышло замечательное, но не сообщила об источнике финансирования исследования, это называется сокрытием конфликта интересов. Сокрытие подобной информации является нарушением научной этики. С опросами так же. Государство может начать войну, потом провести на свои деньги исследование и заявить о тотальной поддержке, не указывая источник финансирования опроса, то есть скрывая конфликт интересов.
Как социологам не навредить респонденту
— Должен ли социолог-исследователь обеспечивать респондентам безопасность?
— Как и во всех профессиях, у исследователей главный принцип – не навреди. Безопасность респондентов надо обеспечивать, отвечая на вызовы времени и той ситуации, в которой оказались люди. Прежде всего, респондентов важно предупреждать о гипотетических рисках, чтобы они могли принять самостоятельное и взвешенное решение о (не)участии в исследовании.
— Как социологу-исследователю обезопасить респондента? О чем конкретно предупреждать?
— Если вы ведете исследование и общаетесь с россиянами, которые находятся на и вне территории России, и вы задаете сенситивные вопросы, например, касающиеся отношения к войне, то недопустимо использовать российские опросные платформы. Хранение данных на территории России тоже, на мой взгляд, рискованно, даже если все респонденты обезличены. Социологи и полстеры - те, кто проводит опросы, - не равны адвокатам и врачам, у которых могут быть профессиональные тайны. Если государство запросит у мобильного оператора данные, он их раскроет. Если их [данные] запросят у социологов, думаю, они должны будут их передать властям.
Когда вы храните данные в России, они потенциально могут попасть в руки силовых структур. Это случится не потому, что вы их кому-то отдадите, а потому что их у вас могут взять [без вашего согласия]. Если данные анкетного вопроса все же хранятся в России, нужно давать респонденту подробную информацию об этом, чтобы он взвесил риски.
При телефонном и иных видах опросов важно напоминать респондентам, что они не обязаны отвечать на все вопросы. Если хотя бы в какой-то степени чувствуют себя незащищенными, то лучше бы они выходили на связь с исследователем в Zoom с черными квадратиками под вымышленными именами и использовали модуляторы голоса.
— Есть ли еще какие-нибудь неочевидные способы обеспечить безопасность респонденту?
— Например, можно повышать уровень открытости и прозрачности. Поэтому я активно веду соцсети, блоги, стараюсь быть видимой и понятной для респондентов, чтобы они всегда могли связаться напрямую, знать наверняка, что разговаривают со мной, а не с кем-то еще.
Как менялись мнения россиян о войне с 2022 года
— Если смотреть в ретроперспективе, как менялась готовность людей участвовать в исследованиях?
— Думаю, в разных группах динамика была разная. Например, мы разговаривали с эмигрантами в начале войны, весной 2022 года, тогда было мало отказов. Люди уезжали из России, они очень громко, открыто об этом говорили. Они хотели рассказать, почему уезжают. Многие гордились своим выбором. А потом началась мобилизация. Когда с октября 2022-го стали делать полевые исследования, сложнее стало получить согласия на интервью. Далеко не все уехали из протестных настроений и хотели говорить [об отъезде]. К тому же, многие свой отъезд скрывали даже от родных.
Иллюстрация «7х7»
— Прошло два с лишним года с начала войны в Украине. Знаю, что вы продолжаете опрашивать эмигрантов. Некоторые из них вернулись в Россию после осени 2022 года, когда закончилась активная стадия мобилизации. Что изменилось в их ответах?
— Есть россияне, которые были категорически не согласны с режимом Путина и с войной, но изменили свое мнение о происходящем после возвращения. Подобные перемены взглядов случались и среди Z-патриотов. Изменились структура страхов, видение будущего. Это отдельный, очень большой и сложный разговор.
— Я правильно понимаю, что люди меняют только антипутинские настроения на путинские и наоборот? Или есть еще какие-то изменения?
— Бывает так, что они сохраняют антипутинские настроения, но начинают поддерживать войну, потому что якобы она была неизбежна. Приходит такое понимание, что война — это очень плохо, но Путин молодец и все не так однозначно. У кого-то имперскость просыпается. Вот буквально полтора года назад человек осуждал войну, а теперь говорит, что если ее проиграет Россия, она лишится своего величия, что именно на это величие весь мир и покушается.
— Почему уехавшие от режима и мобилизации начинают поддерживать войну?
— Причин много. В ряде случаев россияне сталкиваются с тем, что они субъективно оценивают как русофобию. Например, рутинные бюрократические процедуры, связанные с легализацией в новой стране. Такие процедуры в принципе редко когда бывают простыми, но в нынешней ситуации получают особую интерпретацию. При этом есть кейсы, когда россиянам прямо говорят, что из-за их паспорта им не откроют счет или заблокируют карту. Когда с таким сталкивается человек, уехавший с одним чемоданом и оставивший в России все, когда его встречают как путиниста, говорят ему гадости, ему это сложно пережить, это воспринимается как колоссальная несправедливость. Он оказывается отвергнут дважды: в России и за ее пределами.
— А есть ли другие причины, кроме проблем интеграции в новой стране?
— Очень важные факторы – деньги и комфорт. Люди, вернувшиеся в Россию, нередко получают новые карьерные возможности, увеличение финансового достатка. Они живут в прекрасной Москве или в чудесном Петербурге, где не чувствуется война. Они живут спокойно, в своем доме, имеют высокооплачиваемую работу, ходят в рестораны, путешествуют внутри страны, не чувствуют себя изгоями. Это совсем не похоже на опыт жизни в условной Грузии, где не было привычной работы, приходилось нелегально ночами таксовать, где человек сталкивался с антироссийскими надписями в городских пространствах, жил в скудных жилищных условиях, не мог получить полноценную медицинскую помощь
Люди хотят жить нормально, хотят иметь хоть какой-то образ будущего. Например, понимание, что тебя не выселят через несколько месяцев из квартиры, сказав: «А мы вообще не хотим россиян видеть». На другой чаше весов сохраняются риски мобилизации и прочие, но они выглядят для части людей менее вероятными, чем бедность и неблагоустроенность в чужой стране.
Иллюстрация «7х7»
— А в каких случаях происходит обратная ситуация, когда человек поддерживал войну, но с течением времени поменял свою точку зрения?
— Как правило, когда сталкиваются с какой-то несправедливостью или утратой. Если никто из близких не был на этой войне, то она будто бы слишком далека и не совсем реальна. Когда теряют своих родных или когда оказываются в изоляции от них, потому что те уехали в другую страну, когда сталкиваются с доносами, с ростом цен, с ухудшением качества жизни, некоторые люди начинают переосмысливать свое отношение к войне, ее истинному смыслу. Иногда такие перемены связаны с изменением практик медиапотребления. Новые источники информации – новое осознание реальности. Кто-то переслал новости из независимых медиа, человек начал читать, и перед ним разверзлась бездна.
— А если рассматривать невоенные исследования? Можем ли мы сказать, что социологи сталкиваются с какими-то проблемами при проведении исследований?
— Сейчас изменилась практика проведения гендерных исследований. Теперь они называются «мужскими» и «женскими». Трудно найти возможности изучения ЛГБТК+* в России после того, как Верховный суд признал деятельность «международного общественного движения ЛГБТ*» экстремистской и запретил его в ноябре 2023 года. Здесь важно понимать, что в России сейчас фактически не осталось независимых центров, имеющих негосударственное финансирование, которые могли бы себе позволить академические и научные свободы, альтернативный подход к темам. Университеты и исследовательские центры получают деньги от государства, оно их основной заказчик. Поэтому исследования по теме ЛГБТК+* либо невозможны вообще, либо возможны в том контексте, чтобы как-то ухудшить ситуацию для этих людей, поддержав режим в его действиях, в его отношении к этой группе населения, дополнительно их дискриминируя, формируя их негативный образ.
Как в 2024 году работают социологи-исследователи в России
— Как при таких условиях работают опросные центры в России?
— Повторюсь, в России основной заказчик исследований — это власть. К сожалению, значительная часть исследователей так или иначе работает сейчас на усиление режима через опросы. Например, когда россияне видят данные о 86% поддержки режима, часть из них бросает надежды на перемены и присоединяется к мнимому большинству. Власти с помощью опросов пытаются демонстрировать единомыслие в стране. Так было в СССР.
Сегодня в России есть небольшое количество независимых исследователей, которые, находясь внутри страны, вынуждены вести свою деятельность сегодня почти подпольно. Они не могут публиковать исследования под своими именами. Они пишут «в стол». Но именно их работа совершенно бесценна для дальнейшего осмысления и анализа.
— Если основной заказчик в России - власть, то на какие деньги независимые исследователи проводят опросы? Существует ли какая-то грантовая система для них?
— Это еще одна проблема. Исследователи внутри России не могут вести исследования на российские деньги, потому что это делает работу уязвимой и компрометирует ее. Кроме того, они вынуждены подстраиваться под требования заказчика, то есть государства. Центры-доноры, которые находятся за пределами России, не хотят и/или не могут платить деньги тем, кто находится внутри РФ, потому что тогда они сами попадут под вторичные санкции. В итоге эти люди [независимые исследователи] оказываются и невидимы, и без финансирования. Из-за этого какие-то исследования оказываются попросту невозможны, а какие-то ведутся на голом энтузиазме.
— Проводить опросы среди россиян небезопасно для исследователей и для респондентов. Но почему надо их делать?
— Социологическая наука отвечает на вопрос «почему?». Почему все это случилось? Почему люди ведут себя так, а не иначе? Если мы хотим хоть что-то понять и не повторять ошибки в будущем, исследования точно нужны. Так что, невзирая на все сложности, важно не бояться, общаться с исследователями.
Когда мы говорим, что важно рефлексивно относиться к звонкам от “служб безопасности банков”, мы же не предлагаем отказаться от мобильных приложений и от банковских услуг. Вот с исследованиями тоже так. Социологам, полстерам и их респондентам нужно быть внимательными, ответственными. Еще более внимательными и ответственными, чем всегда. Но если ведущей силой у исследователей и респондентов станет страх, то приращения научного знания, появления новых смыслов и лучшего понимания действительности ожидать не приходится. Страх всегда плохой советчик.