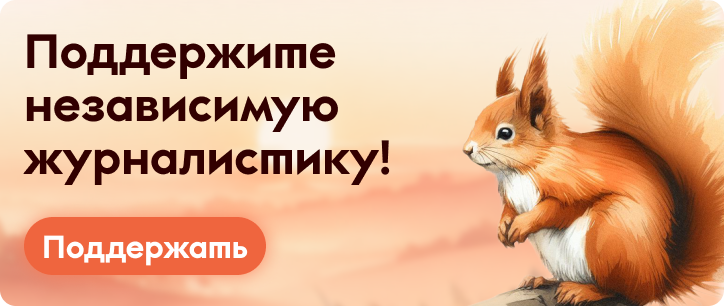Он готовился к этому возвращению много лет и надеялся, что страна ждет его и готова услышать его. Солженицын думал и писал о том, «как нам обустроить Россию», будучи уверенным в том, что выстраданные им смысл и правила российского государства будут восприняты российским обществом как Божий промысел, правда и руководство к политическому действию. Но Россия оказалась другой, чем представлял ее страдалец и гений русской литературы.
Общество восприняло путешествие Солженицына от Владивостока до Москвы как большие гастроли, и хотя на Ярославском вокзале его встречали тысячи людей, проповедь Солженицына не разбудила страну и не оказала влияния на ее политическое движение к моральной катастрофе.
Высказывания Солженицына раздражали людей своей прямотой, бескомпромиссностью и жесткостью, за которыми скрывалась выстраданная им на фронте, в тюрьме, в ГУЛАГе, в диссидентстве, в эмиграции истина: жить не по лжи.
Солженицын требовал от десятков миллионов людей поверить себе, так как был абсолютно убежден в своей правде, своей правоте, чистоте своей любви к России и правильности своего понимания ее судьбы.
Непонимание народа потрясло Солженицына, но не направило его в новую эмиграцию, которая могла стать и наверняка стала бы пожизненной. В XXI веке Солженицын практически ничего не написал. Все великие его книги остались памятниками ХХ века – свидетельством общенациональной трагедии и его личного морального подвига.
Убедившись в том, что слово Солженицына не откликается в широком обществе действием, власти окружили его удушающим почетом и почестями, наградили его всеми возможными премиями и высшим орденом Святого апостола Андрея Первозванного, который смотрелся большой диковиной рядом с орденами Отечественной войны и Красной звезды лишенного воинского звания после ареста в 1945 году капитана Солженицына.
Возвращение в Россию было для Солженицына следствием искреннего желания спасти страну, преподав ей уроки морального сопротивления. Провал этой попытки стал для Солженицына финальной личной катастрофой, которую он воспринял с острой сердечной болью и христианским смирением. Написанное осталось.
«Все же другие роковые пути, за последний век отпробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда всё посеянное взошло, — видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спасибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов распложается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!
Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остаётся нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь с а м о? Но никогда оно от нас не отлипнет с а м о, если все мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнёмся хотя б от самой его чувствительной точки.
От — лжи.
Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несёт, и кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и, чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.
И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простой, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи! Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся: пусть владеет не через меня!», 1973.