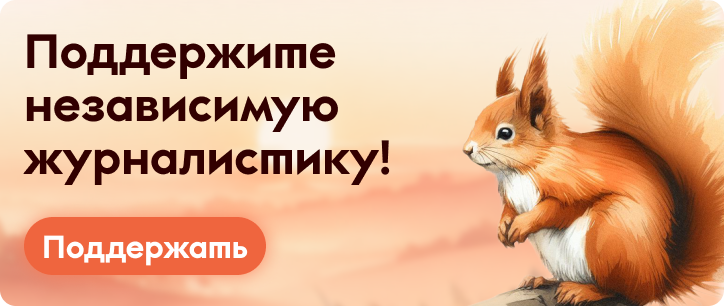Она дождалась меня дважды. Первый раз – из Казани. Мы приехали, переночевали, и я помчалась к маме за девочкой. Чувствовала она себя прекрасно. Вернулись домой. Через полтора часа стало плохо. Мы в клинику. Уже когда выходили из машины, она лежала на руках, как сухой листочек – слабая, лапы и уши висят, сердце еле работает. Прием, УЗИ. И диагноз – разрыв перикарда, сердечное кровотечение. Почти приговор. Врач сказала, что поймет, если мы не будем бороться.
– Мы будем. Она у нас боец.
Я верила. И оставила ее на стационаре. Давления почти нет. Температура упала. Врачи сказали, что сделают все. В десятом часу вечера – звонок из клиники. Динамика отрицательная. Мальвинка уже на ИВЛ. Без сознания. Шансов нет.
– Если мы отключим ее от аппарата, она сразу уйдет. Отключать?
– Отключайте.
Я это сказала. Врач еще что-то говорила про то, что это правильно. Что как специалист она полностью поддерживает. И что-то еще. Но я уже почти не слышала ничего. Съела всю валерьянку в доме – в таблетках и каплях. Извела на носовые платки рулон туалетной бумаги. Написала тем, кому должна была. Выставила последние несколько фотографий с телефона. Глаза уже не закрывались, опухшие. Позвонила Вовина мама. Он был на кухне. Он сказал ей, что сейчас лучше меня оставить в покое. Через какое-то время – снова звонок. Минут через сколько-то Вова приходит в комнату.
– Звонили из клиники. Они отключили ее от аппарата. Я не хотел тебе говорить, но должен. Она еще дышит. Но в коме. Шансов нет. Спрашивают, согласны ли мы на эвтаназию. Надо отпускать собаку.
В этот момент я уже... не знаю, как описать, что со мной происходит. Вова уходит на кухню, чтобы позвонить. Я еле встаю с кровати, плетусь на кухню. И слышу в трубке:
– Приедете ли попрощаться?
– Вова, да. Мы поедем. Скажи, что им, что мы поедем.
В клинике просят поторопиться: она может уйти в любой момент. Ставим аккумулятор. Греем машину. Едем. Лошадиная доза успокоительных уже начала действовать. Заходим. Раздеваемся. Идем в стационар. Нас встречает врач. Ее смена закончилась уже два часа как.
Мальвинка подключена ко всяким аппаратам. Давление. Пульс. Кислород. Но она... пришла в сознание. Она поднимает голову. Пробует посмотреть на меня. Из-за спины голос врача.
– Динамика положительная. Мы подключили кислород. Радоваться нельзя. Состояние нестабильное, но из комы она вышла.
И еще что-то. И еще. Про тромбы. Про температуру. Про почки. Я шепчу Мальвинке на ушко. Шепчу то, что говорила ей бесконечно все эти полтора года. Что очень ее люблю. Что люблю ее больше всех. Что она должна постараться. Она слышит меня. Она – живая.
Нам нельзя остаться с ней. В случае ухудшения, наше присутствие будет мешать проводить реанимационные мероприятия. Что сейчас уже ни от нас, ни от врачей ничего не зависит. Что надо поспать. Что позвонят утром. Ждите звонка.
Мы выходим из клиники, и я начинаю истерично смеяться. Я не могу остановиться. Так просто не бывает. Не может быть. Это какой-то сюр. Эта воля к жизни – за гранью моего, нашего и даже врачей понимания. Колени выплясывают краковяк. Меня трясет. Я смеюсь. И не разрешаю себе ни о чем думать. Надеяться нельзя. Нельзя. Нельзя. Но я, конечно, надеюсь. Собака, вернувшаяся из-за края. Из-за предела.
Ненадолго получается уснуть. С утра жду звонка. В начале девятого позвонили.
Через два часа после того, как мы уехали, у Мальвинки второй раз произошла остановка сердца. Реанимационные мероприятия были безуспешны.
Сейчас я думаю, что если бы я осталась с ней... Если бы шептала в бархатное ухо. Гладила по голове. Если бы была рядом. Понимаю, что никакого смысла в этих мыслях нет. Они только делают хуже и больнее. Что большое сердце этой маленькой храброй девочки выработало свой ресурс целиком. И даже больше, чем целиком. Что вчера мы стали свидетелями невозможного. Которое почти случилось.