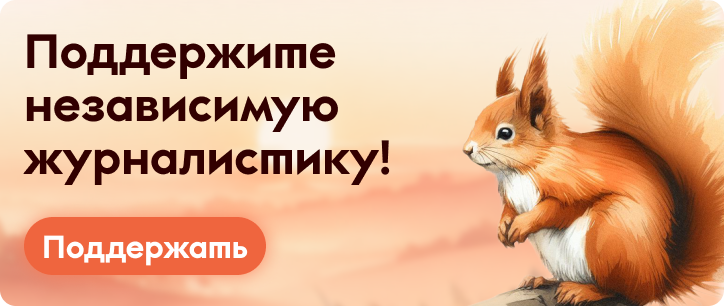Рейтинг Путина и российский социум
3 АВГУСТА 2014 г. БОРИС ДУБИН
Из «Ежедневного журнала»
В проблеме рейтингов для социолога существенны несколько моментов, выделю три: сама значимость этих цифр, их величина и их устойчивость. При этом, конечно, стоит различать, чем рейтинги значимы для власти и что они открывают в состоянии и настроениях массы. Впечатляющая высота (на уровне примерно 70 плюс-минус 5% одобряющих) и относительная устойчивость российского «рейтинга номер один» объяснима. Тут, опять-таки, действуют несколько факторов, и главных, пожалуй, четыре.
По контрасту с относительной пестротой и многоликостью на политической сцене девяностых годов, нарастающей непредсказуемостью тогдашнего российского президента и экономическими пертурбациями после начала «гайдаровских реформ» новый образ единственного правителя, настаивающего на единстве страны (этим лозунгом была легитимирована вторая Чеченская война, одобренная — в отличие от первой — большинством населения) и обещающего стабильность, выглядел для многих в России привлекательно.
Второй фактор — в том, что сложившаяся при Путине конструкция власти, как она представала населению — а именно как безальтернативная, выстроенная иерархически, дающая первому лицу все полномочия, снимая с него какую бы то ни было ответственность, — совпадала с той, которая была привычна для большинства россиян. Больше того, такая символическая конструкция выглядела для них правильной.
Третий фактор: подобный образ правителя и подобная конструкция власти снимаютответственность за происходящее с самого населения. Это, опять-таки, устраивает большинство на уровне от двух третей до трех четвертей россиян, которые при социологических опросах признаются, будто бы ни на что, кроме самого близкого, домашнего круга, они влиять не могут, жизнью своей не владеют и не в силах ее изменить.
В условиях, когда — и это четвертый фактор — то же самое большинство россиян признает, что не интересуется политикой и не хочет иметь к ней никакого отношения, считает ее делом грязным, а политиков — людьми, стремящими всего лишь удовлетворить свои корыстные интересы, вряд ли можно было бы ожидать, что представления о социально-политической жизни, ее устройстве и своем месте в ней у двух третей населения будут выглядеть как-то иначе.
Я бы сказал, что высота и устойчивость путинского рейтинга — это показатель признанной большинством безальтернативности общей ситуации в стране, а значит — бедности российского социума (узости пространства выбора) и его нединамичности (отсутствия конкуренции). Говоря короче, это плата за отсутствие общества, общественной жизни, публичной сферы, политики, наконец (кроме закулисной). Однако важно подчеркнуть, что неопределенный по значению или даже вовсе опустошенный в смысловом отношении рейтинг в таких базовых условиях сохраняет форму и функцию. Его конструкция по-прежнему аккумулирует те предпочтения и надежды, фрустрации и дефициты большинства, о которых шла речь выше. Вбирает в себя проекции, надежды и страхи людей именно потому, что реально воздействовать на власть и на ситуацию в стране, даже у себя в городе, эти люди не могут, не умеют, не хотят, не собираются.
Теперь об озабоченности проблемой рейтингов. Пристальное отношение к ней со стороны властей понятно. В условиях, когда между словами и действиями власти, с одной стороны, и поведением подданных, с другой, нет практически никаких реальных связей, самые общие, схематические, не детализированные знаки пусть даже исключительно демонстративного, «парадного» одобрения со стороны масс — единственный показатель того, что население принимает сложившуюся конструкцию власти, не расположено ее менять, больше того — не собирается даже ставить подобный вопрос. Но именно потому, что этот индекс единственный, власть, приближенные к ней, ее советники, эксперты и другая обслуга, наконец, журналисты, пишущие в газетах и вещающие с телеэкранов о политике, так обеспокоенно и даже ревниво следят за колебаниями рейтинга первого лица, главного символа всего целого, «страны», «нас».
Этот рейтинг всегда высокий, поскольку альтернатив сложившемуся порядку и его символическому воплощению, первому лицу, по признанию большинства, нет. Но он и всегда недостаточный, поскольку во внеконкурентных условиях должен был бы оказаться еще выше. Там, где при нескольких конкурентах лидер довольствуется даже сорокапроцентной поддержкой, а при двух соревнующихся (например, во втором туре выборов) ему вполне хватит половины голосующих плюс хотя бы несколько голосов вдобавок, в российских условиях единственному, безальтернативному и несменяемому лицу даже шестидесяти процентов мало. Отсюда тревога. Понятно, что такое отношение к собственному отражению в глазах населения еще яснее у начальников в отдельных регионах: там власть желает (и добивается!) показателей на уровне 98, а то и 102 процентов.
Еще тревожнее, когда рейтинги начинают снижаться. В особенности, понятно, рейтинг номер один. А именно такую тенденцию социологи Левада-Центра стали констатировать примерно с 2011 года, причем это, напомню, была ситуация перед очередными думскими и президентскими выборами. Рейтинг Путина, с самого начала («президент надежд!») державшийся примерно на уровне 75% опрошенных, достигнув максимума в 85% к лету 2007-2008 годов (сюда еще добавилась «маленькая кавказская война», которую подавляющая часть россиян поддержала!), к лету 2011 года снизился до двух третей и продолжал сокращаться.
Выборы конца 2011 — начала 2012 годов не привели к разрешению сложившейся бесперспективной ситуации: даже по официальным данным, «партия власти» потеряла на них пятнадцать, а президент почти 10% голосов. Ход и итоги «выборов без выбора» подняли волну гражданского недовольства среди более образованной части жителей нескольких крупнейших городов страны. Это недовольство поддержали — по крайней мере, на словах — примерно 40% населения страны, и данный показатель был относительно устойчив более года, с декабря 2011-го по январь 2013-го. Лозунг «Россия без Путина» тогда же поддерживали — опять-таки, на словах — около 1/5 населения. Вместе с тем уровень одобрения деятельности первого лица вплоть до 2014 года оставался самым низким за все годы его замеров — 65%.
Принятием, а затем и практическим применением новых репрессивных законов власть сумела сбить волну общественного недовольства, оттеснить, маргинализировать и изолировать его наиболее политизированные фигуры (Прохоров, Навальный, Удальцов). Однако это были лишь реактивные шаги, тактические и врЕменные успехи, так сказать, технический выигрыш по очкам, не затрагивающий всех. Репетицией же стратегического прорыва, желанного реванша, нужной большинству россиян нашей победы стала триумфальная для страны Олимпиада в Сочи (эти игры были, конечно, одной из козырных ставок Путина). Но настоящим, стратегическим триумфом путинской власти и политики стали события в Крыму, а затем на востоке Украины, в так называемой Новороссии (здесь, впрочем, ситуация оказалась сложнее и перешла в затяжную, что, конечно, снизило нужный власти массовый эффект и будет, как я думаю, снижать его дальше). Вот это уже была заявка на новое, едва ли не главное, место страны в мире, на новую внутри- и, особенно, внешнеполитическую стратегию.
Не стану обсуждать сейчас ее суть и будущую социальную цену подобного реванша для всех людей и социальных групп в России, ограничусь лишь механизмами массового воздействия на общественное мнение, которые были пущены тогда в ход. Их несколько. Первое лицо и, скажу условно, его команда перевели ситуацию и в стране, и в мире в другой смысловой и модальный план, гораздо более важный для большинства жителей России, чем сама по себе реальная политика. Происходящему был придан экстраординарный характер, а чрезвычайные меры, как и вся мифология «особости», «исключительности», в России (и только ли в ней?) всегда оказывалась для населения, не говоря уж о власти, чрезвычайно действенной. Ситуация разом обретает простоту и определенность. Мир опять делится на «нас» и «врагов», поскольку идет война. Все иные разделения, другие определения происходящего, реальные проблемы, повседневные частные заботы отодвигаются в сторону. Улетучиваются привычные страхи, включая страх перед неопределенностью, выбором, индивидуальным действием и ответственностью за него. «Мы» вместе, «вождь» с нами, и он знает, что делать.
Важно, что к реальным действиям властей, законников и военных при этом был подключен мощныйсимволический план. Аннексия и намерения ее продолжать (и не только на территории Украины — ср. Приднестровье и любая другая территория, где русские заявят о притеснении; свыше 40% россиян в июле 2014 года согласились, что Россия имеет на право на подобные действия, еще столько же признали, что формального права она не имеет, но с Крымом поступила правильно) была подана массмедиа и принята более чем 80% российского населения как возвращение России к исконной роли великой, мощной в военном отношении державы (империи), «собирательницы земель» и т.п.
Кроме того, был сделан упор на спасение «наших», русских, которых притесняют и угнетают другие. Ими выступили, прежде всего, украинцы, чье государство было признано незаконным и неполноценным. Сами они были наделены статусом абсолютных чужаков, названы националистами(характерный пример вытеснения, переноса желаемого, но недоступного или неразрешенного для нас на других), а потом и бандеровцами, даже фашистами, чего не делалось даже во времена холодной войны и в позднесоветской пропаганде. Этим было подчеркнуто, что «они» — вообще не самостоятельные существа, а своего рода куклы или зомби (опять перенос с себя на других!), марионетки Запада. Дело этих чужаков — незаконное, античеловеческое, злое, и у них — вот не это ли главное? — все равно ничего хорошего и доброго не получится. «Мы» же остаемся «все в белом»: 86% россиян сочли законным референдум в Крыму, 77% — в Донбассе. Почти 70% в июле согласились, что Россия была вынуждена ввести войска в Крым, и т.п.
Фактически всем этим был признан символический разрыв с Западом и проявлена — опять-таки символическая — готовность к войне. Около 60% россиян, по их заявлениям сегодня, в июле 2014 года, через сто лет после начала Первой мировой, не беспокоит перспектива международной изоляции России, стольких же не тревожат экономические и политические санкции (35-38% тем и другим все же обеспокоены). 55% объявили, что поддержат руководство России в случае вооруженного конфликта с Украиной; 30%, по их словам, все-таки не поддержат (каким образом? будут делать что?).
Понятно, что все это было бы вряд ли возможно, не будь, как уже говорилось, огосударствлены основные российские медиа, установлена информационная блокада населения и т.д. Но все же медиа здесь, хочу подчеркнуть, были не причиной, а обстоятельствами процессов, проявившихся в коллективном сознании и массовых оценках россиян, телевидение их не порождало, а поддерживало. Это важное различие.
Что же произошло в этом контексте с рейтингом первого лица? С прежних, напомню, 65% и еще ниже он уже к марту 2014 года поднялся до 72, в мае — до 83%, а в июне-июле держится на уровне 85-86%. Кто-то скажет, что показатель «всего лишь» вернулся на уровень «лучших» времен, «маленькой» кавказской войны и, шире, 2007-2008 годов, в период до начала общего экономического кризиса. Однако за прошедшие потом шесть-семь лет многое изменилось. В частности, о чем шла речь выше, проявились не только массовая растерянность и разочарованность россиян, но и более адресное, четче проявленное их недовольство. Так что Путин, по моей оценке, сейчас не только вернул себе прежних «своих», но и присоединил к ним новых, прежде «чужих». В том числе — часть тех самых более образованных и активных в 2011-2012 годах жителей крупных городов, а в еще большей степени — людей из среды, их тогда потенциально, на словах, поддерживавшей. Раскол в данном слое, включая самые его верхи, «деятелей культуры», публичные фигуры и т.п. (имею в виду «открытые письма» за и против аннексии Крыма), — еще одна сторона того перелома, который властям с помощью военных (начальников и рядовых) и массмедиа (менеджеров и просто работников) удалось произвести в российском социуме за последние месяцы. Понять и признать это необходимо — не с тем, чтобы принять, а для того, чтобы дальше осмысленно действовать.
Важно к тому же, что рост массового одобрения не ограничился символической фигурой первого лица. Параллельно путинскому, вместе с ним, повысились рейтинги едва ли не всех других государственных лиц и институтов России. Среди оценок российского правительства впервые за долгое время стали преобладать положительные. В зону позитива перешли оценки Государственной думы, чего вообще не бывало никогда: в июле ее деятельность («взбесившийся принтер») одобрили 53% опрошенных. Соотношение массовых оценок «дела в стране идут в правильном направлении/ страна движется в тупик», долгое время выглядевшее, примерно, как 40/ 40, в мае 2014 года предстало как 60/23, в июне — как 62/22. К весне 2014-го доля наших соотечественников, уверенных, что они живут в «великой державе», достигла максимума за все годы социологических замеров Левада-Центра — так оценили свою жизнь 63% опрошенных.
Обнажившаяся при этом простота устройства российского социума, общественного мнения, всего социально-политического режима в стране, дефицит, опять-таки, и у власти и у общества реальных достижений, а потому растущая потребность во все более громких и грубых символических акциях с расчетом на «всех» (при изоляции неугодных и при точечных, но жестких и последовательных репрессиях против тех, кто поднял голову и как-то проявился) — всё это, на мой взгляд, говорят о ненадежности режима и его социальных опор. Мобилизация предельных средств обычно означает, что ничего другого уже нет: всё остальное больше не действует. Конечно же экстраординарный порядок, по определению, не вечен. Однако это вовсе не равнозначно его краткосрочности.
Он — как это было, например, в 2005-2011 годах — способен переходить от сильных, мобилизующих форм к слабым, адаптивным. Не стоит недооценивать и его — как всего устройства социальной жизни в России — основополагающую двойственность, двуликость, двухслойность. Такцеремониальные, имитативные жесты и акты на политической авансцене, исключительно имиджевый, виртуальный для большинства россиян характер российской политики (нисколько это большинство, впрочем, не смущающий и при всей виртуальности им, как мы видели, принимаемый и поддерживаемый) все годы путинского правления сопровождались вполне прагматичными, расчетливыми и реальными действиями правящей группировки, стоящих за ней влиятельных кланов во всем, что касалось удержания их собственной власти, накопления собственных же капиталов или примитивизации общественной жизни, последовательного устранения в ней разнообразия, инициативы, независимости, конкуренции, динамики. Кроме того, о чем уже говорилось, режиму в данных временнЫх горизонтах пока что не видно альтернатив. Здесь властью, приходится признать, проделана определенная работа. Поэтому, кстати, не видно и групп, которые подобные альтернативы смогли бы внятно и убедительно сформулировать, предъявить социуму, получить значительную поддержку тех или иных слоев населения и, опираясь на нее, провести в жизнь.
Нынешний порядок, как к нему ни относись, держится уже 15 лет, а это срок активной жизни целого поколения. Он, с учетом выборов 2018 года и шести лет последующего президентства, грозит по протяженности сравняться с брежневским и даже превзойти его. Сталинский удерживался — опять-таки с помощью несвободы, террора и войны — два поколения с лишним, то есть сумел воспроизвестись за пределами поколения тех, кто его инициировал и первоначально поддержал, получив на этом определенные преимущества и блага. Вероятно, поэтому многие моменты тогдашней принципиальной конструкции оказались, по человеческим меркам, достаточно долговечными, пусть временами они и отодвигались, как будто бы, на второй план, переходили в спорадическое состоянии и т.п.
По-видимому, Россия все еще переживает фазы распада и возвратные попытки укрепления (синдром) того социально-политического устройства и типовой конструкции массового человека, который сложился в СССР ко второй половине 1930-х годов. Этим я никак не хочу сказать, будто сегодня повторяется то, что было тогда. Ровно наоборот: сегодняшнее, по-моему, позволяет значительно яснее увидеть и точнее понять, что и как происходило прежде.