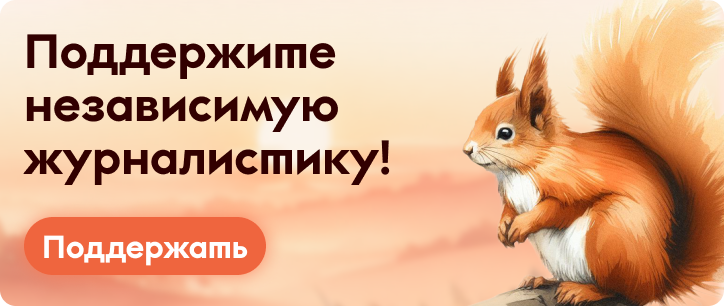В ходе распада СССР в 1991 году Чеченская республика (с 1993 года сторонники независимости Чечни называли ее Ичкерия) пыталась выйти из состава РФ. Российские власти юридически не признавали независимость этой республики. Итогом трехлетнего противостояния стала первая чеченская война — 11 декабря 1994 года российские войска вошли на территорию Чечни для «наведения конституционного порядка» (так власти объясняли россиянам причины военного вторжения). Война закончилась в августе 1996 года поражением российских войск с последующим их выводом из разрушенной республики. Но уже через три года — в августе 1999-го — началась вторая чеченская (официально власти ее назвали «контртеррористической операцией»). Широкомасштабные боевые действия закончились в 2000 году. Но «контртеррористическая операция» формально завершилась только весной 2009 года. Убийства и похищения людей, которые выступали за независимость Чечни, и их родственников продолжались и далее.
За время первой чеченской войны, по оценкам правозащитного центра «Мемориал», погибло от 30 до 50 тыс. мирных жителей, за время второй — от 15 до 25 тыс. До 7 тыс. человек исчезло во время боев и «зачисток». Не менее 12 тыс. российских силовиков погибло за две войны. После завершения чеченских войн государство по сути запретило пострадавшим говорить об этих войнах. Силовики, которые совершали на территории Чечни преступления, не были наказаны. Репрессиям подвергались свидетели войн, пытавшиеся сохранить память о погибших, рассказать о преступлениях российской армии и спецслужб, добиваться справедливости.
Свидетели чеченских войн острее проживают травмы прошлого из-за войны в Украине. Они видят знакомые им методы и логику, которых придерживаются армия и пропаганда. Светлана Бронникова для «7х7» исследовала, как на жителях Чечни отразились боевые действия в Украине и почему коллективная память о чеченских войнах в российском обществе слишком разная.
«Желание вернуться домой перекрывало страх»
Вместе с мужем Зарина (имя изменено по просьбе героини) 13 лет строила дом в Грозном. Семья наконец-то отметила новоселье 1 декабря 1994 года.
— Зачем ты занавески вешаешь? Их унесут или порвут, война же скоро! — предупредила соседка.
— Войны не будет, — ответила Зарина и поправила новые белоснежные занавески на окне.
Первую неделю войны сорокалетняя Зарина с тремя детьми просидела в подвале нового дома с четырьмя соседскими семьями. Их было 16 человек — четыре матери, остальные дети. Подвал был маленьким, отцам не хватало места. Но они туда ни за что бы не спустились: не хотели показывать страх. Во время атак мужчины оставались в доме. На случай, если в помещение войдут военные или, например, дом обрушится. Должен же кто-то разобрать завалы, чтобы люди могли выйти из подвала.
У шестилетней дочери Зарины при каждом обстреле начиналась истерика. Девочка падала, кричала, не успокаивалась. Поэтому семья уехала в Ингушетию. Год они прожили в лагере для беженцев. Установили в палатке печку, на ночь назначали дежурного — он должен был следить за тем, чтобы огонь не погас.
В феврале 1996 года до лагеря дошли вести из Грозного, что в городе стало спокойно. Зарина оставила детей с мужем в лагере и поехала в Грозный проверить свой дом.
— Желание вернуться домой перекрывало страх, — вспоминает Зарина. — Но когда я зашла в город, испугалась. Все было разрушено, через каждый километр стояли военные блокпосты. И на каждом проверяли документы, допрашивали, зачем еду, откуда. У некоторых лица были скрыты под масками, видела только глаза, и иногда глаза эти были злые.
Российские военнослужащие на улицах Грозного, февраль 1995 года. Фото: Sovfoto / Universal Images Group / Shutterstock / Vida Press
Двор Зарины был перекопан. Крыши на доме не было. Соседка (она не уезжала в эвакуацию) рассказала, что в доме Зарины был штаб части федеральных войск.
Только вместе с соседкой женщина нашла силы войти внутрь. Перед эвакуацией семья сложила в подвале ценные вещи — оверлок, швейную машинку. После военных остался только мусор. Пропали с окон новые белоснежные занавески. На стене в одной из комнат губной помадой было написано по-русски: «Смерть чехам». Это военный сленг — чеченцев солдаты называли «чехами».
Во всем доме целым остался только встроенный шкаф для вещей. Зарина открыла дверцы и увидела улицу. Военные разобрали стену, чтобы у них был дополнительный выход из дома на время обстрелов.
Женщина вернулась в лагерь беженцев. Там к ней подходили люди и спрашивали про обстановку в Грозном.
— Я не стала говорить им подробности. Мне не хотелось портить им настроение, они все так хотели вернуться домой, — призналась Зарина. — Сказала, что город разрушен и много военных, блокпосты везде. И многие мне говорили, что не поедут — страшно.
Через несколько месяцев женщина с мужем уехали в Грозный восстанавливать дом, а детей оставили с родственниками в палаточном лагере.
Уже когда вся семья вернулась в Грозный, к ним пришли российские военные. Они попросили повесить на дом белый флаг, чтобы видеть, что тут живут мирные. Федеральные войска к тому времени заняли учебный комплекс недалеко от дома Зарины и с крыши просматривали все близлежащие дворы.
Белый флаг не был спасением. Бойцы Ичкерии считали, что его могут повесить только изменники.
Женщина разрезала белую наволочку и постелила ее под металлическую сетку, которая когда-то была забором, а после обстрелов лежала на земле. Федералы белую тряпку с высоты видели, а ичкерийцы — нет. Возможно, именно благодаря такой хитрости Зарина с семьей выжили.
Женщина вспоминает чеченские войны без слез — перебирает воспоминания сродни типичным фактам из биографии. Когда разговор заходит о войне в Украине, она начинает плакать и делать долгие паузы. Говорит, что специально не смотрит новости. Случайно они все равно попадаются на глаза — тогда Зарина либо переключает канал, либо, если нет возможности переключить, уходит.
— Я не могу это все видеть, потому что это очень больно и очень страшно, — говорит Зарина. — С этими новостями я снова начинаю чувствовать боль, страх, которые были у меня во время войны. Все эти войны — на них никогда нет законов. Когда я делаю мольбу Аллаху, всегда прошу его, чтобы прекратились все войны на земле, чтобы везде был мир. Это единственное, чего я хочу.
Местные жители везут свои вещи на тележках на фоне зданий, разрушенных в ходе массированных бомбежек Грозного, март 1995 года. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
Во время второй чеченской войны Зарина занималась благотворительностью и помогала одиноким пожилым людям, которые не смогли эвакуироваться.
— Старикам в основном и не нужна была физическая помощь, эти войны они проживали в одиночестве. Им хотелось, чтобы я с ними разговаривала. Одна бабуля просила забрать ее к себе — говорила, что будет отдавать пенсию, только бы жить не одной. Но мне некуда было ее забрать. Мы впятером жили в одной комнате.
Большинство пожилых людей были неходячие. Зарина старалась найти им теплые вещи, потому что лежать приходилось в неотапливаемых разрушенных квартирах или подвалах. В начале нулевых женщине удалось заказать войлочные сапоги из Ингушетии. Для Чечни такая обувь была в дефиците.
На радостях она пришла в квартиру к парализованному дедушке — одному из ее подопечных. Он, увидев сапоги, ответил: «Доченька, зачем они мне? Лучше бы селедку привезла!»
Рыбы в Чечне не было. Неделю Зарина спрашивала у друзей, могут ли они найти селедку, — хотелось порадовать одинокого старика. Помогла знакомая из Ингушетии. Зарина говорит, что несла селедку с такой радостью, будто это не рыба, а мешок золота. Только селедка дедушке уже была не нужна. Он умер на второй день после того, как Зарина подарила ему войлочные сапоги.
«Когда я говорю „чеченская война“, никогда не смей меня исправлять»
На встрече с коллегами осенью 2022 года Мадина (имя изменено по просьбе героини) услышала, что люди с антивоенной позицией после начала войны в Украине не могут смотреть на кадры разрушенных украинских городов. Мадина заплакала. Эти разговоры напомнили ей об отце.
Последний раз Мадина видела его в январе 1995 года. Ей было шесть лет. Отец приехал к ним домой в село на машине, на которой была установлена система залпового огня «Град». Сразу же к нему подошли соседи, попросили уехать: федеральные войска могли увидеть боевую технику и начать бомбить местность. Отец Мадины был врачом, но во время первой чеченской войны ушел защищать независимость Ичкерии.
Через несколько недель после визита домой отец погиб. В его окоп попал снаряд, мужчине оторвало голову. Родственники опознали тело по шраму. Как-то, еще до войны, отец Мадины колол дрова и случайно попал топором по руке. На тыльной стороне ладони у него остался заживший след.
В подростковом возрасте Мадина часто злилась на судьбу:
— Я думала, если бы у меня отец был жив, мы жили бы в другом месте, у меня была бы другая жизнь. Став старше, я поняла, что мне нужно принять его смерть и как-то с этим жить.
Мадина считала себя «эмоционально проработанным человеком». Но когда она заплакала во время обсуждения войны в Украине, вспомнив об отце, поняла, что детская травма никуда не ушла.
— Наверное, если была бы какая-то другая культура общения в семье, когда о чувствах и эмоциях принято говорить, мне было бы легче сейчас, — считает женщина.
Младший брат отца тоже воевал за независимость Ичкерии, после войны страдал от алкогольной зависимости. Бабушка — мать отца Мадины — стала чаще посещать религиозные собрания и читать молитвы. По словам Мадины, женщина так и не оправилась после смерти старшего сына, стала замкнутой, неразговорчивой. Мать Мадины пресекала все разговоры о гибели мужа. Мадина никогда не видела, чтобы мама когда-либо плакала.
Желание узнать больше об отце у Мадины при этом было постоянно. Когда кто-нибудь из родственников или соседей вспоминал о нем, она старалась все запомнить. Искала фотографии, сделанные до войны, пересматривала домашние видео, чтобы зафиксировать образ папы.
— Смерть отца — болезненная тема, которую никто не ворошит в нашей семье, — говорит Мадина. — И я об этом стараюсь не вспоминать в обычной жизни. Просто на фоне другой войны иногда это невозможно.
Мужчина в кузове грузовика держит развевающийся чеченский флаг после взятия Грозного бойцами, выступающими за независимость Чечни, март 1995 года. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
Мадина вспоминает о чеченских войнах, когда видит фотографии украинцев, пострадавших от российских ударов. В ноябре 2024 года женщина увидела фотографию Максима Кулика из Кривого Рога. Его жена и трое маленьких детей 12 ноября погибли в доме в результате ракетного удара по пятиэтажке.
— Я сидела и думала: этот человек жил обычной жизнью. За что ему все эти страдания? Меня поражает то, как российская власть одинаково все делает. У нас тоже в Чечне все отрицалось вначале. И сейчас как бы это повторяется, но над другими людьми. Я думаю, что вся их жизнь теперь искалечена. Они пройдут такой же путь, как и мы, — сказала собеседница «7х7».
В 1997 году семья Мадины уехала в Минеральные Воды к родственникам. На вокзале в Минводах Мадина сначала не могла понять, почему вечером в помещении так светло. Потом она увидела люстры и узнала, как выглядит электрический свет.
— Это был шок, — вспоминает она. — Свет был такой яркий! Сейчас я понимаю, что он был самый обычный, но тогда я думала: «Вау, у них есть чистый свет, и они его не экономят».
Из-за систематических обстрелов в Чечне не было электричества. Жители республики отапливали помещение печами-буржуйками. По вечерам зажигали керосиновые лампадки для освещения комнат.
В 2024 году Мадина ездила в Москву. Таксист, узнав, что она из Чечни, упомянул, что воевал там. Мадина в ответ рассказала о смерти отца.
Она спокойно реагирует на тех, кто воевал за федеральную армию. По словам Мадины, на это повлияли зачистки (операции по поиску бойцов Ичкерии; во время первой и второй чеченских войн зачистки сопровождались избиениями, пытками, незаконным содержанием в фильтрационных пунктах, внесудебными казнями и исчезновениями задержанных), которые устраивали российские силовики. Затем кадыровцы переняли эту эстафету у «федералов».
— Когда я была подростком, во время второй чеченской, я помню этих русских военных. Были среди них жестокие, но были и обычные пацаны. Ты смотришь на них и понимаешь — сопля, ничего они сделать не могут. В общем, военные люди разные были, но все негативные мысли у меня напрочь стерлись после того, что начали творить кадыровцы. Со времени этих зачисток прошло много лет, но мы до сих пор больше боимся своих, чем кого-то в России.
Жительница Грозного в своей полуразрушенной квартире после массированных бомбежек, март 1995 года. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
Муж Мадины вырос в российском регионе, в Чечню приехал уже в мирное время. Он ничего не знает про чеченские войны, а если об этом заходит речь, называет их «чеченскими кампаниями».
Однажды Мадина не выдержала и сказала ему: «Когда я говорю “чеченская война”, никогда не смей меня исправлять».
По словам Мадины, люди, которые не были свидетелями чеченских войн, никогда не смогут понять тех, кто жил в республике в это время. Но ей важно помнить об этих войнах и рассказывать о них. Еще до начала войны в Украине Мадина участвовала в проекте по сбору воспоминаний о чеченских войнах. В архивах и музеях не сохранилось никаких республиканских материалов. Сотрудники учреждений отвечали: «Куда-то делось, мы не знаем куда» или «Ой, а все сгорело».
Тогда Мадина решила разобрать семейные архивы. В ящике с документами и фотографиями она нашла тетрадь формата А3, в которую ее мама записывала рецепты блюд, семейные траты. Среди этого Мадина увидела и другую запись, которую ее мать оставила через несколько месяцев после смерти мужа — прямые эмоциональные обращения к нему. «7х7» из-за запрета героини не может процитировать эти строчки.
Мадина вырезала эти листы и принесла их коллегам, с которыми они собирали архивные документы о чеченских войнах. Она не смогла прочитать эту запись вслух, начала рыдать.
— Это было самое тяжелое, что я когда-либо читала, — призналась Мадина после долгой паузы.
Больше она никогда не читала эту запись.
«Самое страшное на войне — быть ее свидетелем»
Умару (имя изменено по просьбе героя) было 12 лет, когда он в 2016 году спросил у родителей: «Почему на некоторых флагах Чечни изображен лежащий волк?». Такой настольный флажок он увидел у друга.
Родители объяснили, что это флаг Ичкерии. Потом мальчик стал чаще спрашивать о войнах в Чечне.
Умар родился в 2004 году в палаточном лагере для беженцев в Ингушетии. Его родители уехали из Чечни в 2000 году. До этого они не покидали республику, несмотря на войну. В селе, где жили родители Умара, было почти спокойно. Правда, приходилось большую часть времени проводить в подвалах из-за обстрелов. Но тогда так жили многие.
Родители Умара уехали, испугавшись зачисток, начавшихся во вторую чеченскую:
— Родители рассказывали, что русские входили в поселок и резали всех, на кого глаз упадет. У папы уже на войне погиб родной брат. Они боялись, что могут попасть под зачистку. И когда начались первые зачистки в нашем районе, родители сразу же уехали.
Палаточный госпиталь Красного креста и полумесяца, март 1995 года. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
Через год после рождения Умара, в 2005 году, зачистки в их селе закончились. Семья вернулась. Дом был разрушен от обстрелов, поэтому жить пришлось с дедушкой Умара. Тогда под одной крышей находились сразу несколько родственных семей, чьи дома пострадали от обстрелов и были не пригодны для жизни.
По словам Умара, в семье и в обществе тему чеченских войн не поднимали:
— При нынешней власти в Чечне говорить о войнах и Ичкерии многие боятся, потому что в Чечне везде есть уши и глаза, это небезопасно. Но когда я у родителей спрашивал, мне говорили все честно. Чем старше я становился, тем больше у меня вопросов появлялось.
Умар считал себя человеком вне политики. Только после начала войны в Украине он стал больше «погружаться в тему».
В социальных сетях молодой человек отслеживал новости, связанные с Чечней. Под публикацией, в которой Рамзан Кадыров рассказывал о чеченском батальоне, воюющем на стороне России, Умар увидел комментарии от россиян: «Чеченцы защищают Россию, молодцы», «Чеченцы и русские — братский народ».
— А до этого для русских мы были чурками. Я какое-то время жил в Москве. Мне там люди не стеснялись в лицо так говорить, типа: «Ты чурка, что тут забыл, вали на свой Кавказ». При этом я гражданин Российской Федерации, у меня паспорт российский в кармане. А сейчас мы для них молодцы и братский народ… Это очень неприятно читать.
В 2022 году вопросы Умара родственникам про чеченские войны изменились. Он стал больше спрашивать не почему войны начались и что происходило в то время в Чечне, а как его родители проживали все эти события.
— Я постоянно пытаюсь теперь, когда вокруг все эти новости о взрывах и гибели людей, представить, как мои родители вообще находились во время войн под обстрелами, что они чувствовали. Как-то они сказали, что самое страшное на войне — не умереть, а просто быть ее свидетелем. Видеть, как на твоих глазах погибают люди, как горят дома, как все бегут в подвалы во время обстрелов, и понимать, что ты ничего не можешь сделать.
«Мне, ребенку, вся эта разруха была привычна»
Аслану (имя изменено по просьбе героя) летом 2000 года было 14 лет. Он сидел с друзьями и обсуждал — можно ли назвать человека храбрым, если он выкопает мину?
Утром мальчики видели, как на окраине их села российские военные заминировали поле.
После долгой дискуссии ребята разошлись по домам со словами, что доставать мину не стоит, ведь это «полная глупость».
Вечером этого же дня прогремел взрыв. Два друга Аслана на спор попробовали достать мину. Оба погибли. Одному оторвало руку, второму — ногу.
В разные периоды еще три подростка из компании Аслана неудачно расковыряли снаряд — и тоже были взрывы, мгновенная смерть. Мальчишки хотели добыть тротил. В компании подростков такой поступок у многих ассоциировался с дерзостью и храбростью.
Аслан почувствовал войну, когда в 1995 году ехал в эвакуацию к родственникам в другой населенный пункт. Основная дорога из села была перекрыта. Добраться до спокойного места можно было по мосту через реку, но мост к тому времени уже был разрушен. Ехали на «Камазе» без прицепа. В кабине было 12 человек — женщины и дети. Аслан занял место у окна. Он заглядывал в него, когда машина проезжала реку. Вода почти скрывала колеса. Аслан спрашивал себя — застрянем или сможем проехать?
— Тогда я первый раз ощутил, что дело дрянь, — вспоминает Аслан. — Мне не было страшно, но было ощущение, что жизнь как-то кардинально меняется.
Боец за независимость Чечни с автоматом на улице разрушенного Грозного, март 1995 года. Фото: Эдди Опп / Коммерсантъ / Sipa USA / Vida Press
Через год, в 1996 году, семья Аслана вернулась домой. Бои на территории родного села прекратились.
Дома, встречая знакомых, — тех, кто не стал эвакуироваться из села или вернулся после эвакуации раньше, — Аслан не всегда сразу их узнавал.
— Они были все какие-то черные, не то чтобы страшные, но какие-то неухоженные. Мне казалось, что у них даже цвет кожи изменился, они стали темнее, что ли, — рассказал Аслан. — А потом я и сам таким же стал — от копоти буржуек.
Мужчина не считает свое детство тяжелым. Тогда все происходящее казалось игрой. Поход за дровами в лес был приключением. Отсутствие игрушек компенсировалось футболом и догонялками.
— Со стороны, наверное, кажется, что детство во время войны — это ужас. Вокруг разруха, ничего нет, умирают люди. Но мне так не казалось. Сейчас, когда я смотрю, что происходит в Украине, мне тоже кажется, что это какой-то ужас. Вспоминаю, как у нас было, и понимаю: мне, ребенку, вся эта разруха была привычна, не казалась чем-то ненормальным. Наверное, я просто человек такой — невпечатлительный.
Но я стал чаще думать о взрослых. О тех, которые сталкиваются с войной в Украине, о тех, которые столкнулись с войной в Чечне. Их мне больше всего жалко. Не представляю, как они все это переживали. Они-то, в отличие от детей, видели другую, обычную жизнь, а потом вмиг ее лишились.
«В учебниках пишут, что это была борьба с радикальным исламским терроризмом»: как запрет на память чеченских войн повлиял на общество
Память о чеченских войнах в России на государственном уровне представлена чаще всего в школьных музеях, где перечислены выпускники образовательного учреждения — участники разных войн: Второй мировой, Афганской, чеченских и сейчас уже войны в Украине. Такие музеи, по словам историка Алексея Макарова, увековечивают образ идеального выпускника, отдавшего жизнь за Родину.
На публичном уровне помнить о чеченских войнах сложно. В том числе и потому, что вторая чеченская пришлась на президентство Владимира Путина, популярность которого во многом взлетела именно на фоне этой войны. В официальную историю России он вошел как человек, победивший терроризм.
— Сейчас задним числом выстраивается нарратив, что Россия всегда борется с терроризмом, — сказал Макаров «7х7». — Совершенно при этом не учитывается факт, что первая и вторая чеченские войны сильно друг от друга отличаются хотя бы потому, что во время первой чеченской религиозного фактора почти не было. Но в учебниках все равно пишут, что это была борьба с радикальным исламским терроризмом. И при этом совершенно не говорится, что же происходило с людьми, которых российские войска якобы хотели защитить.
Танк федеральной армии в Грозном, 1996 год. Фото: Дмитрий Беляков / Shutterstock / Rex Features / Vida Press
Во время путинского президентства память о войнах становится ключевой для современной государственной идеологии. При этом ни Афганская, ни чеченские войны войнами не признаются. Власть маскирует их под борьбу с терроризмом.
Говоря о чеченских войнах, важно понимать, что у участников этих событий есть разная память, и она по-разному соотносится с представлением государственной власти о войне.
Бывший председатель совета ликвидированного правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов выделил четыре группы людей, вовлеченных в чеченские войны. У этих групп людей, как правило, абсолютно разные представления о войнах. Это чеченцы — жители Чечни; нечеченцы — беженцы из Чечни; те, кто воевали в Чечне, и люди, которые не были вовлечены в войну, но узнавали о происходящем из СМИ и разговоров с тремя первыми категориями.
— Родственные связи в Чечне очень сильны, — добавил Черкасов. — Память о каждом убитом и исчезнувшем хранится в семьях. Публично обсуждать войну при этом опасно, но семьи помнят о ней.
Чеченский правозащитник (согласился поговорить на условиях анонимности) рассказал «7х7», что чеченское общество хранит память не только о войнах. Одним из тяжелых событий еще советской истории для чеченцев стала сплошная карательная депортация вайнахов (чеченцев и ингушей) 23 февраля 1944 года:
— Многие до сих пор тяжело переживают события, связанные с депортацией, о которой тоже на государственном уровне нельзя говорить. Во время чеченских же войн почти в каждой семье были потери, поэтому никакие власти и репрессии не смогут запретить чеченцам помнить. Это все невозможно забыть.
Психолог, специализирующийся на теме травмы войны в Северном Кавказе (согласился поговорить с «7х7» на условиях анонимности) считает, что во многом чеченское общество тяжело переживает травмы депортации и чеченских войн не только потому, что в стране есть государственный запрет на память, но и потому, что не было комплексных программ по реабилитации общества. За 30 лет с начала первой чеченской войны программы по реабилитации населения проводили только НКО, на государственном уровне это не поддерживалось. При этом большинство специалистов, по словам психолога, сами не умели работать с травмой войны.
После начала войны в Украине многие чеченцы стали чаще вспоминать о событиях чеченских войн. Психолог связывает это с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).
— ПТСР может длиться годами и десятилетиями, — рассказал эксперт. — Если человеку не хватило собственной ресурсности справиться с травмой и он не обращался к специалисту, чтобы проработать травматическое событие, то страдания других людей воспринимаются как травмирующий контент. Похожее состояние было у свидетелей чеченских войн, когда началась война в Сирии. Тогда люди тоже проживали заново травмы этих войн.
Такая реакция на войны характерна не только для тех, кто потерял на войне близких людей. Психолог рассказывает, что у части чеченского населения возникло чувство вины, с которым некоторые живут до сих пор, потому что в их семье никто не погиб:
— Таких людей, которые не потеряли близких, очень мало, но они есть. Из-за чувства вины они тоже сильно травмируются. Некоторые застревают в этой травме и не могут жить дальше. Непроработанное прошлое дает о себе знать постоянно, а другие войны, где бы они ни были, будут в таком случае еще больше травмировать людей.
По словам правозащитника, в Чечне большинство людей боятся открыто обсуждать тему чеченской войны, потому что за малейшие выступления пострадают и они сами, и их близкие:
— Нынешняя власть в Чечне давит на тех, кто решил не молчать, через родителей, братьев и сестер. Если их нет, то власть идет дальше, и под политические репрессии попадают другие родственники.
При этом и чеченский правозащитник, и Александр Черкасов отметили, что есть случаи, когда молодые люди, чьи близкие погибли во время войны или пропали без вести, сегодня сотрудничают с властями и поступают на службу в силовые структуры. Это тоже становится для общества дополнительной травмой. Не всегда семьи знают, как реагировать.
— Молодые люди, которые были маленькими во время войны или родились после, все равно вырастают и задают вопросы, — сказал правозащитник. — Чаще всего семьи так и начинают передавать память — отвечая на вопросы детей.
К началу первой чеченской войны русских, проживавших в Чечне, было порядка 250 тыс. человек. Большинство из них, уехав после очередной волны боевых действий, не возвращались в республику, в отличие от чеченцев. По словам Черкасова, многим русским беженцам было сложнее вернуться, но проще прижиться в других регионах.
— При этом и русских беженцев не особо-то и принимали, — рассказал Черкасов. — Им платили компенсацию за разрушенное жилье, но общество все равно по факту проживания этих людей в Чечне относилось к ним с подозрением. Тут сложно говорить о коллективной памяти. Но теперь эти люди в большинстве встроены в ту память, которая насаждается властью. Спорить, когда ты русский из Чечни, говорить, что твой дом бомбили свои же, не очень комфортно.
Память воевавших на стороне федеральной армии тоже другая, и не всегда эти люди поддерживают позицию государства. Большинство участников войны молчат. Черкасов объяснил это тем, что многие не считают важным рассказывать о войне:
— Это как память фронтовиков [Великой Отечественной войны], которые не очень охотно делились воспоминаниями, рассказывая вместо этого смешные истории. Потому что, рассказывая правду, думаешь: а кто поймет?
Само российское общество, которое напрямую с войнами не связано, сегодня о них начинает забывать. По словам историка Алексея Макарова, россияне острее воспринимают войну в Украине, потому что у многих там есть родственники. У среднестатистического российского человека родственников в Чечне нет. Проявлять эмпатию сложнее.
— Люди очень не хотят, мне кажется, вспоминать про войны еще и потому, что эти события были недавно, — пояснил Макаров. — Часть населения уже были взрослыми, признаваться себе в том, что рядом шла война, а тебе было безразлично, — не хочется.
Александр Черкасов добавил, что население России находилось в «шизофренической ситуации» в этот период. Власти заявляли о завершении второй чеченской войны уже в 2000 году. В то же время люди видели теракты, с войны продолжали возвращаться люди, а кто-то только уезжал на нее.
К непроработанному прошлому прибавилась безнаказанность силовиков, возвращавшихся с войны. Они привнесли в свою работу методы, отработанные в Чечне: пытки, даже «зачистки» и «фильтрацию».
— Методы ведения войны, не имеющие ничего общего с международным гуманитарным правом, мы сейчас, к сожалению, наблюдаем в Украине, — говорит Макаров. — Более того, мы видим, как это делают одни и те же люди. Игорь Стрелков в Чечне участвовал в похищениях и исчезновениях жителей. В 2014 году именно его отряд начал войну на востоке Украины. Эти люди не попадали под суд, а получали повышение по службе.
По мнению Александра Черкасова, в современной России при нынешнем режиме невозможны переосмысление памяти и диалог между разными категориями людей, хранящих разные памяти о чеченских войнах:
— Мы имеем разорванную память, очень похожую на ту разорванную память, которая осталась от советского времени. Но проработка этой памяти среди всех групп людей необходима не только для жителей Чечни. Люди-то там помнят и ничего не забудут. Это необходимо для России, потому что без проработки своей истории шагнуть вперед не удастся. Примерно так же, как не удалось шагнуть вперед далеко после 1991 года, потому что Россия отказалась от проработки советской истории. Страна предпочла думать, что сразу после 25 октября 1917 года наступило 22 августа 1991 года. Проработка памяти о чеченских войнах — это не просто важное дело для будущего. Это дело, без которого не будет будущего.