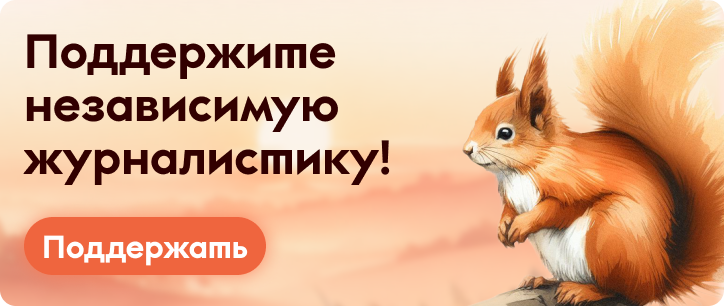Как давно в минуты душевных волнений я мечтал забыться в Равенне. Я представлял, что окажусь там ранней весной, когда по пустым улицам гуляет ветер Адриатики и тихо в древних базиликах под коврами мозаик. Судьба привела меня в Равенну в сентябре. В это время едва уловимо первое дыхание осени — Луна за облаками кажется белее, прохладными ночами прощально пахнут последние розы.
Равенна — город умирания Римской империи и начала новой Европы на ее обломках. Там еще не закончилась античность и уже рождалось Средневековье — не суровое, романское, а красочное, восточное — византийское.
В полумраке мавзолея Галлы Плацидии я ощутил то странное время, когда вся великая империя сжалась в защищенном болотами городе в руках страдалицы-императрицы. Воля и вера этой женщины помогли ей через унижения, усмирения заговоров, поднять из грязи растоптанную варварами честь Рима.
Августа упокоилась в каменном саркофаге под ночным и густым мозаичным небом мавзолея. Как писал Блок:
«Безмолвны гробовые залы,
Тенист и хладен их порог,
Чтоб черный взор блаженной Галлы,
Проснувшись, камня не прожег».
В мозаиках мавзолея еще нет Византии. Там жива традиция языческих храмов. Но уже Добрый Пастырь с доверчивой простотой гладит смиренных овец.
Образ Доброго пастыря освящает все древние базилики Равенны — под его благословением белоснежные агнцы пасутся на вольных пастбищах, голуби пьют из единой чаши и птицы вьют гнезда в деревьях.
Камни Равенны хранят историю легендарного вождя готов — Теодориха. Скромен фасад его дворца, уцелевшего до наших дней. Великий завоеватель подчеркивал старшинство Константинополя — наследника Рима и стеснялся чеканить свой портрет на монетах.
Мавзолей Теодориха возвышается массивным шатром из истрийского камня в предместье Равенны. Правитель построил гробницу заранее посреди кладбища готов. Сегодня там зеленеет раскидистый парк, и играют светом окрестные поля. Мраморная ванна саркофага пуста, — при императоре Юстиниане церковь предала душу Теодориха дьяволу за его приверженность учению раскольников-ариан. Его изображения убирали с мозаик, а кости выбросили вон. Но народная память сильнее догматики и посмертной расправы — в Равенне запомнили Теодориха как «доброго» государя, — справедливого правителя и друга всех слабых.
Солнце мягко клонилось к вечеру, чертило резкие тени. Под оливковыми деревьями отдыхали от зноя молодые люди. В воздухе висел запах переспевшего винограда. Я медленно поднимался по увитой лозами лестнице к вершине мавзолея, к его пустующему саркофагу. Под выпуклый круг купола стремились звуки Реквиема. Лучи косо пробивались сквозь плотные двери. Звуки самолетов казались раскатами далекого грома. Камни говорили со мной голосом веков, рассказывали немую летопись. И в этой торжественно-пустой погребальной зале я с волнением ощущал рядом незримую тень великого воина, владыку варваров и римлян.
Море покинуло Равенну — отползло на десяток верст и оставило застывать в руках «сонной вечности». А между уснувшим городом и бурной Адриатикой, в заросших тернием сосновых лесах-пинетах ощутимо носится неспокойный дух великого Данте. Тревожен и мистически-жуток тот странный лес. Пинета не пустила меня в свои сети, хотя руками грешников тянулись ко мне ее сосны. В окна веял печальный холод и вспоминались строки поэта:
«Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!»
Быть может там, под сенью пиний, Данте вдыхал их смолистый запах и прощался с земной жизнью. Быть может там его звал Вергилий и оживали в чащах видения кругов его последней и самой великой «Божественной комедии».