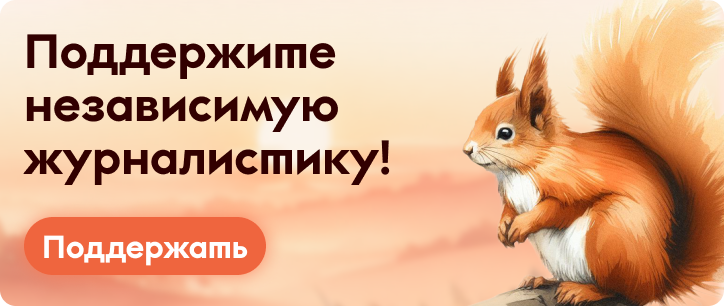Еще утром я говорил с товарищем, который сейчас вполне успешен, но настроен обреченно, — надежды нет, все лучшее в России умирает. Он сам живет неподалеку от Марьина и отправился туда: «Навальный нам с женой как член семьи был, так нравился. Очень жалко».
А уже к полудню к храму с символичным названием «Утоли моя печали» потекла людская река. Она ширилась и ширилась, затопляла улицы, дворы отдаленного спального района, стремилась к церкви. Я работал на многочасовом спецэфире, вглядывался в эти лица и не мог сдержать слез — это моя Россия. Она есть, она жива. Под гнетом липкой сатанинской лжи и беззакония люди поднялась как волна и потекли воздать последнюю честь человеку, который для них был надеждой на то, что Россия будет счастливой. И они шли такие разные и светлые, молодые и пожилые, студенты с длинными волосами, девушки в оверсайзе, бабушки в платочках, респектабельные мужчины в куртках Prada. Шли со скромными гвоздиками, хризантемами, дорогими розами. Безмолвно и даже почтительно внимали ряды одетых в броню полицейских этой сильной духом и живой очереди.
Как я писал ранее, величие познается со смертью. И молодцеватый, высокий, красивый и яркий человек стал из оппозиционного политика Навального народным героем. Он казался близким и понятным простому обывателю, носителем надежды и веры. Но вот он хрупко лежит в гробу, над ним курится ладан и возносится горькое пение. Лицо покойного сквозит освобождением от земного страдания. Его печали утолены. Он обрел покой.
В чате эфира писали люди из Украины, Беларуси, Молдовы, Литвы, Латвии, Казахстана, Армении, со всего света. Они осиротели и глотали слезы, прижавшись к экранам: «Ты погиб за нас, а мы оказались недостойны», «Прости, не уберегли тебя». А те, кто шли — становились смелее и прямее: «Ты не боялся, и мы не боимся», «Алексей», — называли они его как родного по имени, «Нет войне» — кричали все громче и смелее.
Прошло беглое отпевание. Река людская от храма перетекала к кладбищу, ее черные воды струились по эстакадам, грязным февральским проездам. Сгущались сумерки, зажигались фонарики смартфонов, колыхались цветы. Кладбище могли давно закрыть, но уступили — люди шли и шли к свежей могиле народного героя.
И все время прощания у могилы таинственно стоял священник с худым блаженным лицом в потертой куртке и скуфейке, сжимал резной деревянный крестик в руках. Его как будто никто не замечал. А он покрыл лицо покойного, прочел над ним последнюю молитву перед закрытием гроба, а потом много часов стоял тихо и смиренно возле мамы Алексея, иногда что-то ласково говорил ей. Кто бы он ни был, но словно сам Бог освящал это погребение своим присутствием.
А люди все идут и идут… И в том, что не было ни приторно-казенных траурных залов, ни красивых речей, ни пышного погребения был какой-то особенный, глубокий смысл. Надгробное пение, грозный клич непокоренной толпы и этот блаженного вида священник с простым деревянным крестиком подле матери.