Где-то два десятка лет тому назад моя тогдашняя подружка поехала в деревню хоронить умершую бабушку. Мероприятие технически несложное, хотя и не самое веселое. Дня через три или четыре мы уже сидели у нее дома на кухне, которая так подходит для разговоров. Я курил, а она, торжественная и тихая, осторожно перебирала в сумерках какие-то свои воспоминания о том, что и на слова-то выходило перекладывать неловко. И, как водится, сожалея, что слишком мало интересовалась прошлым – тогда еще доступным.
Постепенно разговор перешел на деда, ушедшего еще раньше. Как тот не любил ходить на ветеранские собрания и носить награды, хотя вроде прошел всю войну. И причина такого неприятия собственной биографии выяснилась много позднее, когда и деда самого не стало. Разбирали документы и узнали простую вещь: всю службу ветеран прошел, командуя заградотрядом. А еще оказалось, что и в рядах НКВД старичок удержался по какой-то странной божественной прихоти – он имел совсем ненадежные офицерско-дворянские корни и успел получить первый чин еще в императорской армии, в ту пору кантуясь на хлебной должности в каком-то гарнизоне на периферии.
С того времени в семье сохранился томик К.Р., на форзаце которого каллиграфическим чернильным росчерком красовалось наивное посвящение дедушке от какого-то учебного приятеля. И совсем снизу, выпадая из протокола, под инициалами все тем же почерком: Гельсингфорс, 1916. Вот этот-то семейный раритет почему-то подарили мне – как любителю всякой материальной ветхости. От явного несоответствия нежданного презента я вдруг суеверно решил, что это все неспроста.
Я никогда не бывал в Хельсинки и даже в Финляндии. И не знаю, доведется ли. Просто дыхание этой северной страны преследует меня всю жизнь, с самого детства. Мне постоянно мерещатся какие-то непонятные вехи, расставляемые судьбой. Но я не умею читать их письмена, а потому смысл их ускользает, оставляя недоумение и сожаление.
Я знал, что мой дед прошел всю войну с первого дня – он служил офицером-пограничником, и сложно понять, как вообще уцелел, выбыв по очередному ранению, обернувшемуся увечьем, уже под конец боев в Пруссии. Мне по детству такая биография казалась бескрайне героической, отчего я не понимал его молчания по поводу своей беспокойной молодости. Кстати, он вообще много повоевал. Гонял басмачей, отбирал Бессарабию и стоял на Зимней войне во втором эшелоне, обеспечивая герметичность тылов действующей армии. Так что хоть и немного, но о трудных боях в заснеженных лесах я слышал. Конечно, как советский школьник я твердо верил в происки империалистов и злой финской военщины, неоднократно устраивавшей провокации на рубежах моей молодой родины. Но все это как-то не вязалось с картинкой, которую я видел в школьном атласе – слишком большая разница в габаритах противников. А уж когда учителя рассказали, что чем дальше от экватора, тем растянутей изображение на карте, то я совсем загрустил…
Незадолго до Московской олимпиады родители повезли меня с сестрой в Ленинград. Собственно, не в сам город – до него мы добирались на электричке для походов по музеям почти ежедневно. А базироваться нам досталось в Солнечном на берегу залива – том самом поселке, что когда-то прозывался деревней Оллила. Там жили какие-то хорошие знакомые (и, кажется, институтские одногруппники) моей бабушки, попавшие в эту дачную местность зимой 1940. И одно из сильнейших впечатлений той поры – штормовое укрепление берега из гранитных валунов и поездка к взорванным заброшенным фортам линии Маннергейма. Мальчишки вообще любят всякие воинственные останки.
Знакомые те занимали старую дачу, оставшуюся с легендарных времен. Топили печи, сложенные еще до войны согнанными прежними жильцами, и, как я помню, даже пользовались какой-то их посудой, найденной на брошенном хозяйстве. Я запомнил сам факт, хотя особого значения ему не придал. Точно мимолетный штрих, узел образа, который мы не выделяем в своих воспоминаниях, но используем, когда требуется воскресить в памяти погоду, краски или еще какой внешний антураж прошедшего события.
В щитовом домике не предусматривалось душа или ванны, так что мылись в бане, тоже оставшейся от финнов. Удивительно, как та сохранилась и не сгорела, не сгнила. Самая настоящая финская баня, которая ничем, собственно, не отличалась от нашей русской, деревенской. С тех пор меня невозможно убедить, что финская сауна и наша баня имеют хоть какие-то различия, – я видел первоисточник.
А вот при мытье в полумраке (на лампочках в подсобных помещениях подворья хозяева экономили крепко) у меня постоянно присутствовало ощущение, что кто-то невидимый наблюдает за нами. Возможно, меня впечатлили не совсем тогда понятые разъяснения родителей.
Ведь я как тогда видел мир… Вот есть старая кооперативная конструктивистская квартира в городе, которую родители моего деда построили, когда, учуяв коллективизацию, сбежали из деревни в город. Я даже бывал в той деревне. Или вот другая квартира в другом городе. Ее мои другие дедушка и бабушка получили, когда власти расселяли частный сектор, – на его месте проложили новую улицу. Но я знаю место, где дом стоял, довольно точно – сохранилась соседская трансформаторная будка, поставленная еще фабрикантом, когда-то бугрившем в родных краях. И потому мне верилось, что история – она везде такая. При желании можно из любой усадьбы сделать рыцарский замок и проследить всех владельцев и родню до бог знает какого колена.
В этих же лесном домике и бане подобных историй просто не могло существовать. Но из-за возраста зданий, превышавшего зримую историю, чувствовался какой-то временной провал, дыра, куда эта история ускользнула от меня.
Много позднее, уже взрослым, я познакомился с людьми, на даче у которых в соседней Куокалле росла яблоня, посаженная теми самыми легендарными ушельцами. И мальчик, когда-то таскавший с нее недозрелые яблоки тайком от родителей, совсем дряхлым стариком приезжал из Хельсинки, чтобы попытаться увидеть ту картинку, что он запомнил перед уходом. Правда, я не знаю, чем же закончилось мероприятие, и сумела ли что воскресить такая ненадежная штука, как детская память старика. Зато я запомнил собственное чувство вины и стыда. Потому что есть в этом всем что-то страшное и невысказанное, которое можно только почувствовать. И оттого есть у меня какое-то свое ощущение той страны и города, в которых я и не бывал даже. Но столько уже видел планов и фотографий, что, думаю, если и заплутаю, то все равно скажу, что это за улица, и далеко ли по ней идти до центра, и в какую сторону.
Я не знаю, как поступать с религией. Как вообще ей пользоваться. Я, скорее, по натуре своей агностик. Хотя очень хочется верить, что Харон или лицо его замещающее, когда придет время, ответит мне на простые вопросы, ответы на которые человечество почему-то не находит. Ужасно хочется знать, зачем все затевалось, как на самом деле устроена вселенная и механизм формирования тех мудаков, что все еще умудряются коптеть имперскими идеями. И при этом в глубине души я никак не меньше надеюсь, что ответы мне подскажут еще раньше. И я даже знаю, как их задать и кому. Я уже составил маршрут.
В Хельсинки есть холм, облагороженный каменными ступеньками. На его плоской горбине стоит собор, по архитектуре близкий питерскому Исакию. Вот в этот полумузей и полухрам и стоит заглянуть при случае. Я знаю, потому что встречал много его изображений. И меня даже не смущает, что виды эти уже века полтора как вошли в разряд открыточных. Все равно ухо бога, если он есть и слушает Землю, должно находиться где-то там. И, если доведется, я все же задам свои вопросы при жизни. И пусть я не услышу ответы сразу. Я понимаю, что их следует подготовить. Я подожду, сколько надо. Люди же верят в него. Вот пусть и он в меня поверит.


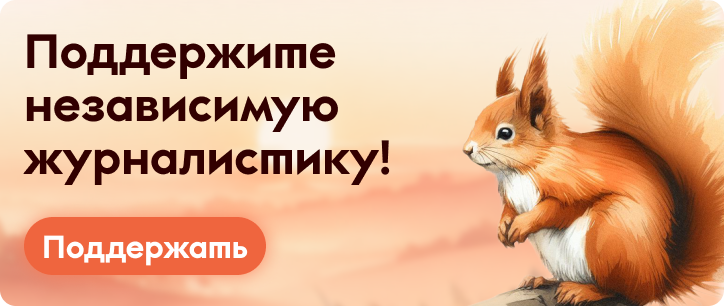
Ничего не знаем о прошлом. Обо всём запрещено было рассказывать нашим бабушкам и дедушкам, сов. власть вся во вранье погрязла.
И мы теперь, считай, сироты, потому что не знаем толком , как жили наши предки.
Спасибо, Илья, интереснейший рассказ и чудесный язык ! Большое всегда удовольствие тебя читать !