Ему снилось что-то хорошее, веселое. Хохотали о чем-то. Даже вроде сам смеялся. Из молодости. Кажется, жена молодая… Белая ночь. Шли по лужам после ливня. В лужах — сбитые с деревьев, пахучие тополиные сережки… Счастье, в общем. Но сквозь это хорошее, радостное все настойчивее и яснее, вторым, третьим слоем в воздушном, постоянно меняющемся пироге сна просачивалось, проявлялось тревожное, даже мрачное…
Еще не проснувшись, досматривая сон, он почувствовал, что настроение будет хмурое, подавленное, и тому есть причина: проблема, большая, может неразрешимая даже. Проблема, которую мозг, охраняя его и его сон, не выпускал из памяти сразу, но какая-то часть мозга (наверно, отвечающая за неприятности, за все плохое) уже включилась, и нейроны-командиры приняли решение: пора! Пора дозированно, порциями, выдавать информацию о проблеме, чтобы подготовить постепенно того, на кого они работают, кого они берегут всю эту жизнь. Берегут, как могут.
Будильник тринькал и тринькал. Шесть. Со Шлагбаума вернулся в два. Заснуть сразу, конечно, не смог. Но часа два поспал. Нормально. Не разбудили, дали поспать (благодарно о девчонках со «скорой»). Берегут. По пустякам не дергают. Молоденькие совсем, а понимают. Жалеют. С теплом. В последнее время он начал замечать, что окружающие стали как-то по-другому, как-то лучше к нему относиться. Нет, и раньше все было хорошо, даже отлично, но теперь как-то особенно — теплее, что ли.
В последние дни спал мало, похудел, себе казался жестче… Хотя вчера, вернее сегодня уже, на Шлагбауме, когда вернулись, не пробившись туда, где сносили лагерь, чуть не распустил сопли.
Как и всегда, собрались и рванули быстро. И как всегда, стихийно. Несколько десятков машин, большинство — молодежь. Он замешкался на старте, - посчитать - тут же «десятка» распахнула дверцы:
- Геннадьевич! Заглох? Давай с нами! С нами!
- Да нет, я сам! Я на своей! - Рванул, довольный, следом: молодежь принимает за своего. На трассе наткнулись на кордоны: поперек дороги «форды», «буханки», мигалки, люди в погонах. Много. Натянутые бледные — испуганные лица. Бегающие взгляды, в некоторых паника. Гигантские, пляшущие тени все шли и шли в свете фар по коридору из незаглушенных, злобно урчащих легковушек, жаждущих мчаться дальше. Туда, куда их только что, как разгоряченных боевых коней, безжалостно гнали хозяева. Где, нарушая все законы, идет стройка гигантского мусорного могильника и где сейчас разгоняют лагерь экоактивистов.
Метались по черному ночному небу фантастические огни, нелепой здесь, в глухой тайге полицейской дискотеки. Взгляд его все время натыкался на широкую «пашню» - высокие ровные параллельные бугры — отвалы, стремительно улетающие вдаль. Как будто какой-то сказочный пахарь-великан пропахал здесь с севера на юг и тайгу, и землю. Пашню, на которой даже зимой не лежит снег. По которой пришли на север многие сорные травы, приползли никогда не виданные здесь, на севере, ядовитые змеи гадюки — так греют землю проходящие под ней жилы — трубы газопровода. По ним непрерывно, день и ночь, десятки лет гонят вот эти люди с севера в центр кровь и кислород экономики огромной страны. Нефть и газ. Самые горячие уже хватались за полицейские машины — отодвигать с дороги!
- Не трогать! У нас все по закону! - остановили депутаты.
- Вы должны пропустить! Дороги не закрыты! По какому праву, по какому приказу не пропускаете людей? Здесь жители района, работники «Газпрома». Это их дороги, они их и построили! Мы власть! Едем разбираться, почему сносят лагерь активистов на незаконной стройке полигона в Шиесе?! - снова депутаты.
Блистали звезды на погонах; срывающимися, дрожащими голосами в ответ визгливые команды, приказы и угрозы. Знакомая шарманка:
«Приказ! Неповиновение! Неподчинение! Преступление!»
- Почему вы не с нами?! Какой приказ? Какое преступление? У нас все законно! Это наша земля! Эти люди живут здесь, работают здесь. Народ! Вы почему не с народом?!
Так и стоял, народ... Он как-то растерялся даже… И те, напротив - народ. Пацаны, в форме только… Ни красные, ни белые, одной национальности, одной страны. Один язык. Друг против друга. Враги? Да, враги. Богатые и бедные? Нет. Нищие. И те и эти — нищие. Тогда почему? Нищие по-разному? Точно. Здесь нищие карманом. Там — духом! С той стороны приказ, заведомо преступный, здесь — совесть, долг перед детьми.
Глянул в глаза, где — пусто, где, кроме денег, — ничего! Понятно стало: они опасны! Да, опасны для самих себя, вернее, для своих же — мелкозвездных. Ни мудрости, ни ума, ни чести и ни совести, — наделают дел! Толкнут в мясорубку! Опасные для государства!
Старики наши сориентировались быстро: «Отбой! Отходим! Закон не нарушаем — черты не переступим! Разворачиваем людей! По ко-о-оням!» Быстро расходились, разбегались по машинам. На ходу он выхватил сцену: незнакомый молоденький гаишник, одной ногой стоя в машине за дверцей, уже с ожившим, обмякшим лицом (все, пронесло, уходят!), сам не чувствуя свою улыбку, не удержался — стал «успокаивать» проходящих, пробегающих, хмурых и еще опасных:
- И вы будете! Живут же люди! Сорокакилометровая зона, а живут! И ничего, живут. Чернобыль. И вы будете жить.
Высокий жилистый мужик, подскочив, резко дернул дверцу:
-Ты! Пацан! Это бабам нашим не скажи, идут вон! Загрызут! Щенок!
Дверка с синей полосой захлопнулась. Он оглянулся: да много женщин, молодых. Эти еще страшнее и опаснее, в глаза им лучше не смотреть. Много чего там есть… И удивленно (в очередной раз) отметил — да, - женское! Женщины — они чувствуют раньше. Беду. Они не отступят и сильнее они. Мужики за ними. Да, все их протестное движение в основном женское! И от этого полегче даже стало.
Досадно было. Как там говорят: мужчины не плачут — мужчины огорчаются? Чуть не «огорчился». Стоял еще на Шлагбауме. Ждал. Пробормотал потом: «Мы проиграли бой — война же не проиграна еще…» Помчался домой. Въехав в лес, в остервенении все жал и жал на сигнал. Плачут мужчины-то, плачут. Женщины, те, конечно, вздохнули с облегчением: все целы вернулись. Слава Богу!
Так, не открывая глаз… и… что сегодня? А, да, лагерь сносят экоактивистов. Да и суд… Сегодня будет повестка (весть дошла). Суд. Тяжелый день.
«По закону или по совести?!» — все крутилось и крутилось в голове, когда после суда он гнал из райцентра на последний паром. Паром через большую северную реку, что разделила его район на две части. Реку, истоки которой как раз и начинаются там, в бескрайних Архангельских болотах, где и задумана безумная мусорная свалка. Там позади — райцентр, власть, что предала и продала, полиция. Впереди, за рекой — дом. Опаздывал, хотя гнал сто двадцать даже (там, где асфальт, конечно, но в основном вся сотня от райцентра — грунтовка, да пыль еще). Так все же как? По закону или по совести? А что бы сейчас сказал мне он?.. - По закону и по приказу! — бойко так всегда отвечают те, кто в форме. По приказу — значит по закону! Для них. Все просто — для них. И когда спрашивают их грозно, орут им прямо в рожу: «А если приказ преступен?! Тогда-то как?!»
Делают вид, что не понимают. Бубнят одно: «Приказ». И молодежь эта, мелкозвездная, у которой — ипотеки. Понимают, в чем участвуют. И те, в погонах с крупными звездами — по две, по три. Те сразу поняли, видно по глазам. Взяли на лапу — а теперь «по приказу». Назад для них дороги нет. Много чего уже наделали — по приказу. В тесной любовно-финансовой спайке с «черными».
Про черных в форме — чоповцев — не хочется и думать. Там ни по закону, ни по понятиям… да нет, не зэковским — звериным! И что бы ОН-то сказал?
«Конечно, сынок — по совести. Поступай по совести, по-людски — всегда выйдет по закону».
Папа…
…Сигналил! Дергал дальний свет! Бесполезно. Паром уже почти на середине реки разворачивался кормой. Оторвавшись от левого борта, ловко осуществляя маневр — разворот, — белый катер мягко прилепился к другому правому борту подруги-баржи. При этом корма ее стала носом. Моторист газанул, наверно: из трубы рванул дымок. «Парочка» стала быстро удаляться по течению к тому берегу. И вот исчезла почти. Широко. Разлив. Весна. Опоздал.
Вышел из машины — опускалось солнце. Длинные тени падали на блестящую, черную здесь, под высоким берегом, воду, очень быструю, зеркальную и почти везде гладкую, казавшуюся от этого тяжелой, маслянистой и густой. Но в одном месте, метрах в пятидесяти от берега, вода время от времени сама по себе начинала вдруг рябиться, вскипать, - появлялись буруны, завихрения, клокотание. Кипение. А потом — большие волны поперек реки.
Было понятно, что там, глубоко-глубоко, где всегда темно, даже черно и страшно, идет какая-то неведомая, тайная, большая и тяжелая работа. Какие-то могучие силы поднимают со дна всю эту густую толщу, все эти тонны воды, поднимают мощно и перекручивают и перемалывают ее, вышвыривая мусор, бревна, мелкие камни, валуны, кубометры песка и грязи. Грязи. Да, больше грязи… И с остервенением отбрасывают ее подальше!
С трудом оторвавшись от завораживающего зрелища, он пошел по берегу. Там, за рекой, где непроходимые леса и болота с севера на юг, прорезали нити нефте- и газопроводов, его поселок. Там — его работа. Там пролетела жизнь… Еще дальше на север, в тридцати километрах по газопроводу, на заброшенной железнодорожной станции, уже много месяцев, плотно закрытая на полицейские кордоны, - его боль.
Вокруг бешено орали кулики, почти соловьями заливались на слух какие-то, наверно, очень маленькие птички. Что-то летающее шуршало, хлопало в воздухе. Рявкало, крякало, ухало, чирикало в кустах — в лесу. Вся эта дикая какофония без спросу сразу полезла в уши, в голову, куда-то в грудь — под горло! И немедленно, опять же на генетическом уровне начала… От неожиданности он сразу не нашел в себе слова, но тут же удивленно и почти радостно — родное! Лечить! Да, начала лечить! Душу… Замер с открытым ртом, тупо уставившись в землю.
Сзади задребезжала машина. Захлопали дверцы. «Буханка». Старая. Грязная. Синяя. С кряхтеньем, охами повыпрыгивали, по виду — лесники. Молодые. Понесло табачным дымом. Сразу громко, весело заговорили, пересмеиваясь: «киберджеки… КамАЗы… вывозка…». Лесники. Незнакомые, не наши. Может, коми?
— Паром? Наверно, будет. Будет, будет!
Уважительно здороваясь:
— Перевезем, конечно, перевезем!
Один, помоложе:
— А это вы с мегафоном выступали? Я видел…
— Да, я… А вы что, ездите туда?
— Да нет… Некогда…
— Понятно…
Помолчали.
Отошел — не мешать… Разговоры сразу продолжились:
— Да Пашке отдадут новый КамАЗ-то, конечно — Пашке! Пашет как бешеный, жена родила только что, — папаша!
И еще что-то про бешеного молодого папашу, и сразу дикий хохот. Слушать не стал, пошел к машине, не мешать…
Солнце чем ниже, тем ярче, багровее окрашивало запад. На востоке, там, откуда он приехал, где родное село, темнело, небо. Из ярко-синего превращалось в зеленое; цвета сгущались, становились сочными, глубокими. Там детство, юность. Там суд…
Сначала в полицию, по повестке. «Статья не указана. Бери 51-ю Конституции! Отказывайся давать показания, если не будет адвоката», — напутствовали дома. Так, паспорт, очки. Прислушался к себе — нет, страху никакого! Удивительно! Всегда в душе считал себя робким. Просто как будто нужно пройти процедуру, неприятную, может болезненную, но неотвратимую. Захлопнул дверцу.
— Никола-а-ай Геннадьевич!
Три женщины, плакаты: «Требуем прекратить преследование!» Немолодые, симпатичные, незнакомые.
— Мы слышали: вас арестовали, прямо с приема забрали!
— Да нет, нет! — Ближе: даже красивые, напряженные. Еще бы — рядом начальник полиции! То-от еще начальник! Но глаза горят: смелые!
- Вы это что? Вы ко мне?.. — дрогнувшим голосом, непроизвольно, хотя уже сразу понял: его, его защищать пришли! — Эт-то-о… за меня, что ли?! Запнулся на полуслове.
— Да! Да мы всех поднимем!
— Милые вы мои, хорошие… Смелые! Спасибо вам, дорогие, спасибо! — Обнялись. — Идите, идите! Не надо за меня рисковать! Спасибо! Спасибо!
Как здорово! А день-то сегодня, оказывается, солнечный!
Встретила молодая красивая адвокатша. Зашли в здание.
Подчеркнуто корректно в кабинете уполномоченных им зачитали заявления от начальника, участковых, протокола: «Двадцать пятого мая на станции Шиес Архангельской области, перед жилым комплексом ООО „Гарант безопасности“ организовал и провел несанкционированный митинг, с мегафоном… группа лиц числом… от имени народа объявил стройку закрытой… призывал к разборке забора… также в рупор призывал… Таким образом, нарушил… Статья, предусматривающая…
— Вот посмотрите видео с вашим выступлением, — старший уполномоченный. В гражданке, молодой, высокий. Подал смартфон.
За долгие годы работы с большим количеством людей он научился мгновенно — по первому мимолетному взгляду на себя — определять настрой собеседника, его отношение к себе. Ошибался редко. Что здесь? Агрессия — нет, неприязнь — нет, равнодушно-мстительное «так тебе и надо?» — нет…
Тут удивительное — явно уважительное. Не соболезнование, не жалость, нет. Четко — уважение.
Молодец! Молодой. Из наших, наверно, из северных!
Сегодня на 17:30 назначен суд. Межрайонный. Ого, не мировой даже! Статья не та?
И быстро как! Почти приятно: никакой волокиты. Не то, что там, на Объекте, где он был свидетелем, когда «группа лиц, в количестве ста тринадцати (!) человек напала на группу граждан в количестве сорок, причинив тяжкие телесные повреждения». Как это официально-то? ОПГ? И никто не задержан! И не пытались даже.
— Вот вы, с рупором. В красной куртке, — уполномоченная, подавая листок.
Ксерокопия фото. («Я-я! Ну и как ты себе? Хор-р-о-ош! Староват только. Годками пятью бы пораньше. Это митинг на Шиесе, где я им, чопикам, - про деда Василия, про его бешено ревущие во мне гены».) Врач по профессии, человек не злой — да нет, не так!.. Совсем мягкий, какой-то размягченный даже к старости, к своим шестидесяти двум…
В последнее время он вдруг с ужасом, если не сказать с омерзением, стал ощущать в душе своей доселе неизвестное ему, очень сильное, всепоглощающее чувство. Чувство, идущее из каких-то темных глубин его, наследственное, наверно, — как он сам на очередном митинге в бешенстве, не осознавая, проорал в мегафон этим «черным»: «Гены! Гены во мне бушуют!» Гены его предков. От генов чувство гнева, требующее справедливости, возмездия. Нет — мести! Требующее уничтожать! Тех, кто — на женщин, на его односельчан, на друзей, — как свора бешеных черных псов! Натянув черные намордники-балаклавы. Давить! Может, правильно: бешеных собак пристреливают, не правда ли? (Или про коней там, про уставших?..) Да, все дед Василий. Председатель колхоза. Он усмехнулся грустно…
Дед. Вот был персонаж-то! Девять детей. На войну просился — не взяли: старый. «Здесь твой фронт — колхозы!» И послали туда, рядом с нынешней Зоной, отстающий колхоз поднимать. Рассказывала мама. Корова у них тогда еще пала. Голодал. Председатель колхоза голодал! Голодала вся его семья, дети, двое грудничков без молока, но ни колоска, ни кружки молока колхозного домой не принес! Вот был коммуняга! Все дед… Гад! Тот бы справился с ними. Просто. Совсем даже. К стенке поставил бы, и все!.. Поднял колхоз в страшном 1942-м… «Имени Восьмого марта» назывался. Его, его, сукиного сына, гены меня до суда довели!
Вышел, сел в машину. Полчаса еще есть. Пропустив встречную, он круто повернул направо — в узенький проулочек. Налево — домик батюшки, направо — погост. Кладбище, тишина… Погрел руками холодный черный мрамор: «Прости, мама… Редко. Прости, папа». Теперь сюда, в угол родового… «Здорово, дед!» Протер ладонью пожелтевшую эмалевую тарелочку. Деда он не помнил… С удовольствием вгляделся заново в родные резкие черты. «Хор-р-рош был! Молодец!» А как ты вечером домой-то приходил, дед?! С пустыми руками. Как в глаза, в девять пар голодных глаз-то смотрел?! Ну и не боись теперь, дед! Я тебя — не опозорю!
Рупор!.. В рупор призывал. И чопики в трех заявлениях, и майор в своем доносе (делать им нечего! В стране преступность вся закончилась…): «Призывал… руководил!..»
Он ворчал, пробираясь на второй, на первой скорости по вечно и навсегда разбитым улицам родного села. Оскорбление полиции… Рупор… Старый какой-то попался, оранжевый, маленький, слабенький. Орать пришлось так, что сорвал глотку. Но не доорешься, видно, в рупоры: не то время…
Как-то раньше не задумывался, какое время, все казалось нормальным. За бесконечной работой не было сил задуматься. И люди — он всех знал, и знали все его — были нормальными, хорошими. Хотя и на расстоянии, дистанцировались как-то. Может, работа так влияла. И слышал, и соглашался, что молодежь — «потерянное поколение», и нет в стране объединяющей национальной идеи…
Приблизилась спокойная старость. Все было даже очень хорошо. Но вот кто-то очень дальновидный, - мудрый, там, на самом верху придумал наконец ее — гениальную и простую! Чтобы пробудить, сплотить нацию. Идею! Надо дать народу… нет, не денег, не зарплату, не работу. Нужна проблема. Беда нужна! Надо, например, взять и завалить пол страны мусором. Север, например. Мусором из городов, из центра. Почему север? Да потому, что места много и народ здесь для этого подходящий, правильный. Настоящий — русский. Ведь не могли же там, наверху, великие аналитики, социологи, начать такой эксперимент где-нибудь на юге. Ничего бы не получилось! А здесь уже через несколько месяцев, даже он, человек всегда далекий от политики, сначала просто с интересом, а теперь и с восторгом начал замечать признаки «идеи»: появление новых людей — нового народа. Свободного, сплоченного, смелого, трезвого!
Молодежь оказалась мудрой и ответственной, старики стали легки на подъем и задорны. Похорошели женщины. Народ этот никому уже не позволит обмануть себя, и рот ему уже не заткнешь. С ним придется считаться. Свершилось! И…
Так, все! Стоп. Приехал!
Он припарковал машину у решетки сада. Вышел. Суд. Межрайонный — народный.
В судах бывал нередко, но все в статусе свидетеля. Вот, наконец, и обвиняемым. Воистину от сумы да от… Почти все известные пословицы уже испытаны, а об этой как-то не думал даже… Как же мудр все-таки народ наш русский! И грустно это…
Окошечко. Два мощных пристава. «Фамилия?» Все корректно. Рамка металлоискателя. Адвокат Татьяна Юрьевна ушла к судейским. Подождать… В окне напротив — сад городской. Как много воспоминаний. Но мысль его по привычке съехала на объект…
Там, на Шиесе, первый раз он побывал в молодости. Было это очень давно, в восьмидесятых, когда умирал поселок лесорубов: оставались несколько стариков, не пожелавших переезжать в центральный. Он, молодой врач, еженедельно приезжал туда рано утром, часов в пять, - так приходил рабочий поезд. Подворный обход, шесть-семь немощных стариков, главное лекарство — поговорить с ними, посидеть. Потом обильный ранний завтрак-обед у тети Паши, которая держала еще корову и балек (овец так называла) штук десять. Обязательная бутылка «Московской» на столе. В низеньком окошечке печальный вид залитой солнцем, зарастающей мелким березняком пустынной улицы… Корова Динка, свесив голову… Какие-то непонятные, медленные (у него, тогда веселого — даже лихого! — молодца) печальные мысли… Слипающиеся глаза. Рассказы о зэка сквозь полудрему — о строителях дороги, что вдоль «железки» и лежат: далеко не хоронили. Упал — и закопали…
И вот снова сюда, уже на объект, которого нет. «Линейный объект». Белое пятно. Черная дыра. «Подготовительный этап». Сколько еще названий, чтобы соврать, скрыть от народа истину — мусорный могильник. Самая большая свалка мусора в мире!
Он встал, походил по холлу. Долго что-то «статью шьют» - пошутил… Как в первый раз на «новый» для него Шиес. Долго собирался, все что-то тянул, чего-то ждал. Чего ждал-то? Да, наверно, верил. Все верил. Хотя видел, что «там» молчат слишком долго и плотно. Настораживала, удручала позиция друзей-коллег: «А все равно построят!», или: «Есть, мол, посерьезнее дела». Полушутя так. Или просто — молчание. Это что-то ему напоминало: тревожно было, смутно. Как будто повторяется по кругу что-то — гигантскому, в сотни лет, временному кругу! Неприкаянность какая-то.
Однажды резко, в один день, понял. Стыдно, нет, не так, — неприлично уже не понимать, не заниматься этим! Не обижался уже на коллег и не думал больше о них. «Блажен, кто посетил…» - всю жизнь зачем-то это было рядом. В детстве, после папиного объяснения, слова эти пугали. В бесшабашной юности казались смешными. В годы зрелые думалось — работа это. Но, видно каждому свыше предлагается еще что-то. Большее, чем, например, спасать. Должен увидеть, почувствовать, понять, твое ли? Главное, зачем тебе оно? Взять его, и вот уже понятно, близко это «…в его минуты роковые…) Понял, но легче не стало. Поехал…
Когда впервые подъезжал к месту, к которому давно стремился и увидеть которое жаждал (или просто долго ждал, как пирамидам, например, или в Венецию), он всегда старался уловить и запомнить самые первые неосознанные свои — мозга своего неосмысленные, на уровне подкорки, — впечатления. Ощущения, запахи, звуки, прикосновения — сам еще не знал что. Они, первые, не соврут, и самые яркие они. Останутся потом в памяти — в «шкатулочке». Настоящее ли все это, чего так долго ждал, чего хотел, и главное: нужно ли «оно» ему? Пирамиды эти, например. И когда в Гизе неожиданно, на повороте, в окно автобуса начинал вползать огромный светло-коричневый мегаобъект, что-то необъяснимое проскальзывало в мозг. И радостно, удовлетворенно и навсегда он понимал: да! Настоящие! Нужные ему! Пирамиды! И Венеция: та ли картинка откроется в заливе, какая в его мечтах? И когда на горизонте начинало разворачиваться еще более блистающее, веселое, яркое, вдруг нечто радостно проникало снова. Он ахал про себя: «Да, такая!» И отправлял в коробочку-копилку.
Вот так и на Шиес на поезде в первый раз. Как только «376-я» - начал тормозить. И замелькали груды — горы гравия, песка. Буреломы, завалы, бесконечные ряды оранжевых тракторов и самосвалов. Он жадно прильнул к окошку: люди. Много. Веселые, яркие, подвижные и шумные — экоактивисты. И сотрудники ЧОПов («Гарант безопасности») — презрительно-мрачные, черные. Явно чужие здесь — ненужные.
Весь сидячий вагон поднялся разом. Загалдел, захохотал. Выход… Пропустил молодых, нетерпеливых. Плакаты, коробки, гитары… Спрыгнул с высокой подножки на рыхлую, шуршащую гравийку. Запахло мазутом, болотом, лесом, дымом, цветущим багульником, распаханной землей, свежескошенной травой, еще чем-то болезненно знакомым. Звуки: шум ветра, трепет листьев, гудки и хохот — сливались в песню. Тугой, теплый ветер ласково, но ощутимо, как слепой — рукой (свой ли?), торопливо ощупал морщинистое лицо — и весело помчался дальше, к молодым. Все это разом ворвалось в сознание, знакомо укололо душу. Мгновенно стало ясно: «Оно! Мое!» И спокойно. И хорошо…
Привет, Шиес! Это я. Ты ждал? И я пришел.
А вот второй раз — все как-то отрывками. Рваная кинолента.
Поехали по вызову: коллективная драка, активисты с чопиками, многочисленные травмы… Конец рабочего дня… Похватали перевязочные, мешок, чемоданы. Тридцать с лишним верст по газопроводу. Свернули в лес. Болото, грязь — тут только пешком. Два километра.
Вот над головой прострекотал вертолет. Второй по счету. Бешено, неправильно бухало в груди. «Частая желудочковая экстрасистолия… опасная…» Отстраненно диагностировал. Ну и фиг с ней! Бежал, задыхаясь. «Год у меня еще есть… Должен быть! Папа умер в шестьдесят три…» Бормотал себе, чтобы отвлечься, хоть на секунду отвлечься от того, что доносилось из-за огромной, с двухэтажный дом, серой гравийной, очень длинной кучи-насыпи, которую надо было оббежать, обогнуть, чтобы добраться туда, откуда исходил этот страшный звук. Насыпи, на которой стояли четыре или пять снимающих на камеры врагов в черном и синем. И наши в камуфляже.
Один черный, обернувшись назад, направил на них, вниз, камеру. Но, увидев надпись «Скорая помощь» на фельдшерской Викиной куртке, тут же, потеряв интерес, отвернулся.
Звук этот: рев, плач, визг, вой, стон, одновременно и мужской, и женский (женские тона слышнее, выше и поэтому ужаснее), — был такой, что периодически перекрывал даже шум вертолета. Что-то похожее когда-то услышал в фильме, страшном, про войну, когда сжигали людей. И запомнил, на беду. Забыть не мог. Но там под музыку было, и на экране… И вот опять. Здесь проще, некрасивее, противнее. Невыносимее.
Оглянувшись на бегу, с удивлением заметил, что оторвался от молодых, — надо же! Резвый! Вовка шофер с Викой еще за насыпью. Выхватил у носильщика, высокого стройного парня, тяжелый железный чемодан с крестом на боку: «Теперь я сам! Ты уходи! Не подставляйся!» Перепрыгнул яркие заградительные ленточки. Вдруг оказался на узенькой дорожке лицом к лицу, вернее, к широкому ковшу большого оранжевого колесного трактора. Ковшу, в котором рядком лежали четыре или пять (не успел сосчитать) ярко-красные бочки с надписью: «Лукойл».
— Стоять!
И сам встал. Перед ковшом. Ковш тоже встал, покачиваясь перед его грудью.
— Сто-я-а-ать! С-сука! — вдруг вырвалось весело, как в молодости. И сразу забилось ровно сердце, и спокойно стало вдруг, и легко уже дышалось. — Стоять! — И добавил зачем-то, для себя, наверно: — Абзац!
Караванчик из четырех тракторов с горючкой встал.
Слева и сзади подскочила красивая растрепанная Вика.
— Ну что, стоим?!
— Сто-ои-им!
— Сейчас подоспеют наши!
Простояли заслоном минуты две. Из-за тракторов справа, слева — уже пробирались, проталкивались, проваливаясь в густую глину, один, два, три… восемь… Прекратил считать. Черные — чопики. Наших не было. Чернота подскочила, навалилась: его и Вику легко откинули от трактора, втоптали в глину — в грязь. Следом полетели мешки и чемоданы.
Выбравшись, молча собрали чемоданы, побрели, смешавшись с толпой чоповцев, не обращая уже внимания на них, - все тяжело дыша, - за удаляющейся колонной с горючкой. К ангару.
С вертолетной площадки растаскивали раненых. Сидя на бетонке, рыдали женщины: от ушибов, ссадин, больше от обиды. Все еще ощущая цепкие, мерзкие, вонючие руки на себе, зловонный запах из ощерившихся слюнявых ртов. Многие, которых никогда не били, сидели молча, потрясенные дикой нелепостью происходящего, то и дело удивленно трогая свои кровоподтеки и ссадины.
У ангара с горючим, что-то бешено выкрикивая, он тараном пошел на плотную цепь черных.
— Его не трогать! Это врач! Не тр-рогать!!! — сбоку, бешено — Вика.
Как в замедленной съемке, только успел увидеть, оценить, запомнить: точь-в-точь, как та, в фильме старом «Вий»! Пальчиком указывает грозно чопикам. Но тут же сзади цепкие руки-клещи схватили его за шею, за куртку, сильно дернули, оторвали от земли — бросили… Очнулся через секунду на бетонке.
— Он сам упал! Он сам! — весело хохотали чопики.
Прорвались: прошла горючка. Незаконная стройка свалки почти три месяца стояла из-за нехватки топлива. В последние недели помоечным строителям и чопикам соляры не хватало даже на генераторы. Так плотно им перекрыли все пути доставки «наши». Как кислород! Сдыхайте! Но вот додумались, переиграли: штрейкбрехеры-вертолетчики из Коми завезли горючее вертолетами.
Машинально отметил: полиция в сторонке — кучками, начальство — в штатском. Чопики, уставшие, румяные и потные, — удовлетворенные, тоже кучками, не спеша, - как футболисты-победители с поля, - возвращаются в свой жестяной домик-барак.
На вертолетной площадке, - на которую, увидев в небе вертушку, сели (кто сел, кто встал) сорок наших под вертолет, — полосы размазанной крови с соплями, кеды… Здесь окружила их сотня крупных особей мужского пола, неизвестной породы, то ли псов бешеных, то ли татей черных, в черных же намордниках. И принялась избивать, растаскивать.
Один, - возрастной уже, чуть помоложе его, чопик, с залысинами, с виду приличный даже, - сняв шапку-балаклавку, шел вразвалочку, смело, сквозь активистов, устало улыбаясь. Сказал вдруг громко побитым и поверженным, сидящим и лежащим:
— Спасибо!
(Мол, дали подразмяться!)
Не сдержался. Подскочил к нему. Бешено, брызгая слюной, заорал в лицо:
— Маме! Своей! Скажи! Спасибо! С-сука! Я тебя запомнил! Жди!
— Врача! Полиция! Врача-а!
Рванул на зов, на ходу с удивлением ощупывая себя, — целехонек! Надо же! Ни одна старая кость не сломалась! Два чопика наперерез, под ручки тащат третьего, в соплях, слезах и истерике.
— Помощь нужна? — хмуро. — Что случилось? Я врач. Баллончиком в глаза? Давай промоем. Дава-ай! Помощь… Я врач!
— Не буду! Они нас били! Они вас били. Не буду! — Вика.
— Мы — нет. Мы… не били. Работа…
— Дав-вай, Вика! Раствор, капли! Дав-вай скорей, там люди! Работа. Их работа. Потом поймешь. Раствор, салфетки!
Заплаканные, ласковые и нежные чопики вдруг начали раздваиваться, плавать в воздухе, прыгать черными зайчиками в жестяной домик. К своему лысому толстому карлику, важному главному прорабу — начальнику всей мусорной стройки. Который прислан, говорят, из самого центра. И сидит в потайной комнате, и руководит всеми, и покупает всех… И боится… Да, конечно боится, потому что все там незаконно.
Он, как всегда, увлекся, начал рисовать себе картинку: экоактивисты… много… сотни… руками трясут большую двухэтажную жестянку-общагу, оттуда, как тараканы, чопики… Вот выскочил и карлик, толстый, жирный, по пояс голый (жарко там, душно, спят все вместе), бежит, повизгивая… «Так… что это я?! Задремал?! Снова?..»
Вечерело уже, когда на одеяле долго, муторно по лесу, по болоту выносили на трассу Андрея с черепно-мозговой. Здоровый парень, тренер детской спортивной школы, все метался, все пытался встать: «Сам пойду! Са-ам… Где наши?..» Стонал все.
А он всю дорогу к машине то бормотал чего-то, то ругался матом, то взывал к кому-то, то угрожал. Плевался… В старой пыльной «буханке» с крестами, которую дико трясло и бросало во все стороны, висел все тридцать километров, схватившись за ремни руками.
— Две минуты из трех месяцев блокады — наши! — промолвил он вдруг мрачно, гордо. Потом, уронив голову на грудь, болтаясь как сосиска, спал.
Вика не спала, сидя с боку у носилок, смотрела невидящими глазами перед собой. Молчала и все ощупывала пальцами свою первую боевую награду — огромное бордовое левое ухо. Чему-то улыбалась, тихо…
***
— Что? Прослушал… Что не открывается?
Вернулась Татьяна Юрьевна:
— Не открывается диск с записью вашего выступления — вещдок полиции. Судья не может ознакомиться. Могут отложить. Переживаете?
— Да нет… Но, как не открывается?! Что это за работа органов? Пароль забыли? Не тот формат? Получается, не открывается какой-то диск и человека засудить нельзя! И что, я теперь — домой, неосужденный?.. Нет, я не согласен, я протестую! А может это хакеры, оттуда, из-за кордона?.. Но если серьезно, хотелось бы сегодня. Не тянуть. На меня у них еще материалов — на два дела. Оскорбление полиции на том, на первом, митинге, да разбор забора на свалке. Две ходки еще… Шутка… А вы из каких Орловых? Фамилия знакомая… Ираиды Михайловны?! Ваш муж — младший сын моей любимой классной?! Три года как уж нет ее… Мы звали ее ласково — Ираидушка… Вот здорово!
Сразу нахлынуло: молодая фигуристая учительница, десятиклассники, походы по району, места боевой славы, памятники-пирамидки, костры ночные, песни… Блин! Что за день! И это — не просто так! Это привет! Это они, наши учителя, ушедшие. Настоящие учителя, оттуда, сверху. Нам, уже тоже старым: «Не дрейфить! И так держать! Мы верим в вас!» Все понял, сдержим!
— О! Вы даже улыбаетесь!
— Да так, подумал о приятном. О людях хороших.
— Вы уж, пожалуйста, не выступайте больше. Приятно было с вами познакомиться. Пусть другие теперь. Хватит вам. Опасно… — Татьяна. Какая все-таки милая! И красавица к тому же, строгая такая красота. Наша, северная.
— Хорошо, постараюсь. Мне тоже было очень приятно… И спокойно. С вами.
Он широко улыбнулся наконец и про себя добавил: да, рупор-мегафон надо бы побольше, посолиднее заказать ребятам. Там, на объекте, расстояния огромные, аудитория обширная — мощный нужен, сильный!
Там, где для народа не работают законы, где смертельно опасны гаранты безопасности, где полиция скромна и застенчива, где злые северные ветра с остервенением рвут ненавистные прорези балаклав и разгоняют темные тучи над дремучими лесами и бескрайними болотами. Где с любовью и надеждой смотрят на нас сверху наши героические предки и любимые учителя. Где поезда, с грохотом пролетая мимо, приветственно гудят активистам: «мы с вами!», а вольный сиверко весело треплет кудри, выбивая радостную слезу из сияющих глаз! Там рождается новый народ великой древней страны! Все это Шиес!
— До свидания, Татьяна Юрьевна! До следующего заседания.
Солнце закатывалось. Быстро холодало. Он достал куртку из машины. В кармане завибрировал телефон. Забыл звук включить после суда! Брат! Конечно — первым звонит! «Нормально… Да нет, не арестовали! Нормально, перенесли… Хорошо, перезвоню!» Жена. Потом из больницы: «Мы тут забастовку хотели». Активистка: «Разрешите, я в совет по правам…» Еще звонок: «Ты как? Ты как?! Тут уже почти семьсот лайков под постом о тебе!» Снова: «Ты как?!» Еще, еще. Еще!..
Подъезжал к поселку, слева на север открылся вдаль газопровод, там, где-то далеко, наш пост-пикет Шлагбаум, еще дальше, по наглухо закрытой для народа дороге, которую когда-то он, народ, сам и построил на свои деньги, — Шиес.
«Там день и ночь. Там черное и белое. Добро и зло. Там ложь и совесть. Там наши! Там сутками напролет им светит солнце. Там весь год цветет черемуха, осыпая белым снегом их гордые плечи. Там на небе только для них сияют мириады звезд. И не смолкая, день и ночь поют им песни птицы. Там поруганные могилы наших предков. Там сама земля наша, истерзанная, обиженная, униженная, разрытая бульдозерами, зовет к себе на помощь. Там Шиес. Там мой народ, который встанет за меня в час трудный. Любимый мой народ! Прекрасный мой народ!»
В голове его сами собой слова легко и быстро складывались в лозунги — костяк новой речи: «Шиес, ты наша надежда! Шиес, ты наша радость! Ты наше будущее! Шиес, ты наше светлое будущее!»
Въезжал в поселок, любимый поселок, к любимым, дорогим людям. Сложился стих из двух строк, концовка речи:
Шиес — боль моя!
Урдома — любовь моя!
На железнодорожном переезде остановился: мигал красный, проходил «Воркута — Москва»… Включил «Авторадио». Неожиданно для себя вдруг, дико фальшивя, заорал-запел, нелепо размахивая руками, во всю глотку, вместе с Лепсом: «Самы-ы-ый лу-уч-ч-чший де-ен-н-нь!..»
В кармане, на груди у сердца непрерывно, требовательно, бешено — весело! — все гудел и гудел, все вибрировал телефон.


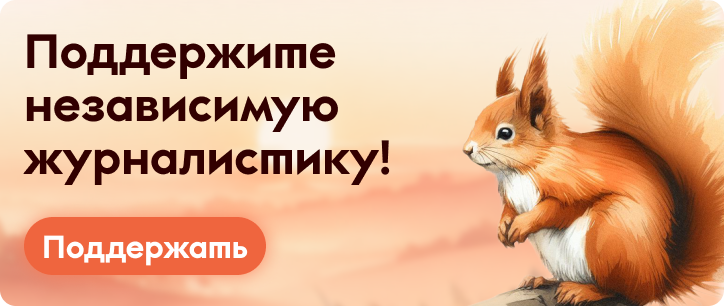
Зэв бур.
Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь. Махатма Ганди
Им не задавить северный народ.
Эту песню не задушишь, не убьёшь! Не убьёшь! Не убьёшь! Эту песню повторяет молодёжь! Молодёжь! Молодёжь!Абу полöмпырысь, а сöвесть серти. Йöзкоста поэзия комякъяслöн.Ставлы, кодi чужлiс, овлiс и олo Помoсдiнын, Помoсдiнса OТУВТЧOЙ!
Спасибо Вам! Держитесь, мы с вами. Как же все это дико, больно, неправильно. Спасибо за звуки, запахи, красоту родины... так не хватает их вдали.
Спасибо Вам! И Вы,уважаемая Белая медведица, там вдали держитесь! Теперь и мы с Вами! Мы выстоим.