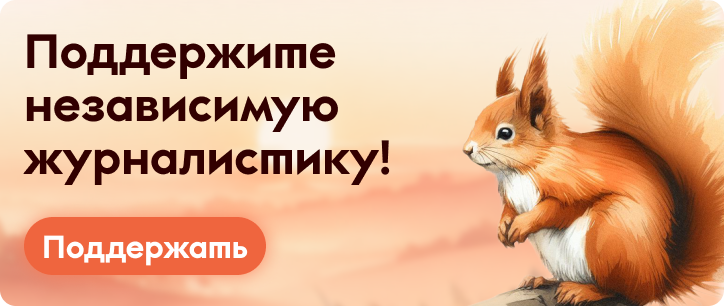– Почему тоска?
– Потому что осень.
– Опять осень.
«Чужие дурачки на чужой планете»
Опять смотрю «Трудно быть богом» Алексея Германа. Перестраиваю в своей голове символическое пространство. Пытаюсь выдумать свой персональный смысл, потому что во внешнем мире его больше нет. Подобно горбатому Арате, ищу ответа на вопрос: «А что делать нам?»
– Это не Земля, это другая планета. Такая же, как Земля, но не догнавшая ее лет на восемьсот…
Я был на премьере, и через день пошел в кинотеатр ещё раз: небывалое дело. Еще у меня есть лицензионный диск. Странно: дома почти тысяча книг – и единственный лицензионный диск с фильмом. Это великое кино входит в душу, как острый топор в сосновое бревно.
Закадровый голос объясняет: «…Но Возрождения здесь не было. Была реакция на то, чего почти не было».
В моей стране тоже почти Арканар: нет возрождения, но есть реакция на то, чего почти нет. Умники, книгочеи и талантливые ремесленники бегут из России. Вокруг кишат «серые». А Руматы нет. И Араты горбатого нет. В нашем Арканаре вначале русские мужики поверили Путину. Потом еще раз поверили Путину. Потом снова поверили Путину. Потом опять поверили Путину. Их уже «вешают за яйца вверх тормашкам по всему урочищу, на тех же самых деревьях», но они будут верить Путину, пока тот не сдохнет.
«Мой зритель либо умер, либо уехал», – говорят, эти слова часто повторял режиссер в последние годы.
Утро благородного дона метко характеризует слово: «пипец». Ровно так в рабочей командировке корячусь, бывает, за маленькие деньги и я – всё вокруг чуждое, безмерно уже устал, достало всё так, что даже домой не хочется. «Русская идея: кто я, где я?» Румату примеряет с жизнью музыка. Я, проснувшись, что-нибудь читаю – и это примиряет меня с жизнью.
Второй раз в кинотеатр примчался прямо со сруба, с рабочей площадки. Друг тоже не успел перед фильмом поужинать и купил нам по роскошному пахучему капустному пирогу и сок. Не понимал он, что его ждет. А я знал, и в нужный момент распаковал и разломил пирог, дунул на него, рассеивая по кинозалу вкусный аромат. И когда солдат усмехнулся с экрана, сунув рожу в дыру разбираемого туалета с присохшим по краю дерьмом, я шумно отхлебнул сока и заржал, подражая хмельному веселью разнорабочих. Зрители беззвучно задергались в рвотных позывах.
«Трудно быть богом» – беспощадно изрезанный, длиннющий сериал на несколько сезонов. В той резне выжило общим счётом три часа – разрозненные минуты затаились меж трупов, сбежали к границам соседнего Ирукана, выжили на каменистых островках среди бездонных Петанских болот… Ошметки стихов. Клочки мыслей. Обрывки диалогов. Всё втоптано в грязь Арканара. Эти останки – то, в чём потомки увидят нас и наше время.
Знание повести Стругацких не всегда помогает.
Из фильма можно надергать первоклассных цитат:
«Понимаешь, то что я с тобой разговариваю, еще не означает, что мы беседуем».
«Видишь, как вольно дышится в новом, освобожденном Арканаре. И вино подешевело!»
«Я барон знаешь какой? У-у-у! А ты умник. Вот он научит меня читать, и я тоже стану умником. А ты бароном не станешь никогда».
Но какой в этом толк, когда нет объединяющего всех нас единого культурного ландшафта.
Серые штурмовики и прочие душегубы Арканара на удивление не злые. «Ничего не ударено, и не ущиплено даже», улыбаются примирительно измазанными говном лицами. Незлобливый тёмный народ, не хуже нашего. Убивают чудовищно и часто – но без ожесточения и злобы. Восемьсот лет назад и в наших краях резались не хуже.
Настоящее зло в мире совершается ничтожными людьми, у которых нет мотивов для зла, и они не злы сердцем – так запомнил я объяснения Ханы Арендт, назвавшей этот феномен «банальность зла».
В конце фильма в животное-убийцу преображается Румата в своем рогатом шлеме. В дом ломятся солдаты-монахи, один – равный с равным – бесхитростно окликает обезьянку на плече: «Смотри!» Все, все они как животные – только университетский Арима невпопад начинает вести себя как человек. Его – «студента» – и убил Румата-животное первым. Раб, не человек Муга – дергается по-человечьи в тщете остановить убийство Аримы – и самоубийство бога. Убивать Румате было нельзя – после убийства он стал принципиально другим…
«Дон. Кажется, я ослеп», – ужасается Муга. Это будущее перестало быть видимым, прогнозируемым, предсказуемым.
Умники и книгочеи – угрюмые, злопамятные, неприятные персонажи. Фантастически злопамятные. «Что, вонючий? Помнишь, сорок лет назад назвал мою книгу пометом птицы Сиу?», – швыряет говном в лицо обреченному поэту отекший одышливый человек. Плачет, обессиленный, от нервного напряжения. «Ну успел же, успел!» – радуется за него жена… Будь в Арканаре Интернет, не пришлось бы мстительно ждать долгих сорок лет: немедленно бы метнул, как говорится, говно на вентилятор.
Или талантливый ремесленник в Черной башне, навинтивший всяких пыточных механизмов: «Все своими руками, до последней железки!.. Вся жизнь! А теперь только покушать прихожу». Переживает без любимого дела, сволочь.
Да сам барон Пампа, первый меч империи и друг Руматы, простодушно признаётся: «Это я его сдал… Во-первых, имя какое-то собачье».
Дети отвратительные – все, как один, злобные, вороватые, тупые уроды. Вероятно, это недвусмысленный намёк: поганое будущее у этого мира. Всякий раз, когда земляне пеняют Кондору, что усыновленный им местный мальчик – вор, вспоминаю Варлама Шаламова: «Понял, что воры – не люди».
Всякий раз присматриваюсь к персонажам: кем мог быть в тех условиях я? Вот на этого гордого летуна вроде похож: «Летать учимся! Всё больше вниз!» Нет, не похож: сколько высокомерно обещанных за работу золотых брезговал я зацепить из кучки «конских яблок». У нас, нынешних, одно из немногих преимуществ – гигиена. Э… только вот говно переместилось в головы. Сомнительный прогресс.
Вот: пока веселые серые солдаты меряют глубину нужника, в котором собираются топить умника; пока Румата переругивается с рабами и пытается остановить носовое кровотечение, – на заднем плане двое распускают бревно на доски. Вот одним из тех плотников вполне мог быть я – до тех пор, пока кто-то не прознает про моё университетское образование. Биофак мне и в реальной жизни мешает, а там, в Арканаре – это верная смерть. Эх, нанял бы меня благородный дон Румата перекрыть кровлю – не текло бы в доме. И баню ему нормальную бы срубил – жизнь на чужой планете чуточку б улучшил…
Срубы у них там похабные. И лесов вокруг Арканара нет. Похоже вполне на современную Россию. Современные срубы бывают вполне похабные – качество работы мало кто теперь умеет увидеть. И леса хищнически вырублены.
«Три десятка ученых забросили сюда». Постепенно им не о чем стало разговаривать: «Собирались всё реже, пили всё больше. И раздражались друг на друга». Ради этого незачем, братцы, лететь на другую планету…
Короткой искрой прорывается важная мысль – и гаснет без отклика. Им меж собой-то не удаётся поговорить, куда там понять аборигенов. На всей планете нет равных меж умными собеседников. Неужели совсем нечего обсудить?
«Слушайте внимательно. Двадцать лет назад один м****к объявил вспышку искусства здесь Возрождением. А я посмеялся. А ты написал, что я мерин. Ну, мерин и мерин. А где искусство? Где Возрождение? Нету его. А вся жизнь (отмеряет для наглядности большим и указательным пальцем: вся короткая жизнь безвозвратно просрана)».
Румата притерпелся к вони и говну, а от того, что не с кем поговорить, тяжко страдает.
Из Будаха тоже собеседник для Руматы никакой. Надежды не оправдались: «Оказывается, ты дурак, Будах. Пошёл вон. Зачем ты мне?» Вот тебе и «трезвый аналитический ум, сформированный этой цивилизацией»: ага – только что из жутких застенков, в мучительных попытках помочиться он способен понимать вопросы и отвечать. Будаху тоже не с кем поговорить: делится своими открытиями в физиологии с рабами. Румата не может заставить рабов мыться, а Будаховское наглядное «Тюп-тюм» сработало бы, вероятно, не начнись вскоре резня.
Горбатый Арата – самый дельный из местных. Но с ним разговор идет особенно тяжко. Румата кривляется от бессилия, как тот униженный дон, что позволил себя высечь.
«А что делать нам?» – Этот вопрос постоянно задаю себе я – не Арата Румате.
– То же самое, что и всегда…
В безуспешной попытке избыть тоску отец Кабани синтезировал спирт. Развязать языки для беседы как средство борьбы с тоской: вполне себе по-русски.
– Почему тоска?
– Потому что осень.
– Опять осень.
Кровь в чёрно-белом фильме – чёрная условность: то жидкая, то густая и смолистая. «На чём вы руки-то?» – кто-то в толпе душегубов коротко ржёт. Румата сдерживается с огромным трудом. «Мысль вошла в голову и улеглась не сдвинешь: Надо убить дона Рэба. Убить и не думать, что будет потом». Каково бывало непобедимому Румате, красноречиво говорит шрам на тыльной стороне ладони. Несладко бывало.
«Ты ведь книжки пишешь, а мыслей нет… Вот одна. Там, где торжествуют серые, всегда, всегда в результате приходят чёрные. По другому не бывает». Одна метафора как результат двадцати лет работы на чужой планете. Ничего не могут: ни в альков, ни в серу гвардию. Не покидает ощущение, что на Земле – родине ученых-прогрессоров – была какая-то катастрофа. Там тоже проблема с качеством университетского образования. И ученые они какие-то беспомощные, и «бремя белых» не несут…
Финальная арканарская резня аннигилировала силы, убивающие мирных жителей. Это по-нашему: вырезать более или менее крупную часть населения, мешающую лучшей жизни, в ожидании, что оставшиеся заживут, наконец, по-человечески. Нет больше казней и пыток. Румата прирезал и Рэбу, и Арату; а сам остался, прогрессор. Реализовал мечту Араты: выжег эту золотую и черную нечисть до двенадцатого колена. Но город опустел. Но университетские продолжают гибнуть. Никто, ни один спасенный умник не дожил до финала: «дон Леонардо и дон Толстяк, они же сами друг друга… Вот». И университета как не было, так больше и нет. И рабы не снимают свои колодки.
Музыку, музыку никто из местных не полюбил и не понял.
Тщетны усилия хоть что-то изменить. «А ты ничего не сможешь сделать…»
Но Румата – единственный из землян – хотя бы останется в песнях. Это не так уж и мало.
На Земле Румате нечего делать. Нечего ему делать в НАШЕМ Арканаре.
…И если кто-нибудь даже
Захочет чтоб было иначе,
бессильный и неумелый
Опустит слабые руки
Не зная, где сердце спрута
И есть ли у спрута сердце...
Вероятно, те тридцать учёных минус Румата вернулись на Землю. Плюс один местный мальчик-вор, аллегория нашего отношения к эмигрантам. Через двадцать лет тяжкой жизни и малопонятной миссии. С чем вернулись, кроме опустошающей усталости?
Они вернулись на Землю – и после этого там, на Земле, опять что-то существенно изменилось: улучшилось. Потому что в фильме есть закадровый голос, он заведомо мудрей, осведомлённей, цивилизованнее и землян-ученых, и аборигенов-инопланетян. Некий важный урок они извлекли. А мы – нет, не извлекли. Мы продолжаем жить, будто чужие дурачки на чужой планете…
Возможно, и они не извлекли свой урок. Вероятно, всё дело в земном умнике, сумевшем из огромного количества видеоматериала, привезенного с далекой планеты, создать вот этот фильм – оправдание долгих лет на планете, «такой же как Земля, но не догнавшей ее лет на восемьсот».
Имя умника есть в титрах: это А. Ю. Герман.
Засыпаю тяжко, будто вязну в зловонных Петанских болотах, не имеющих дна. «Говорят, ночью погром будет. Умников резать будут».