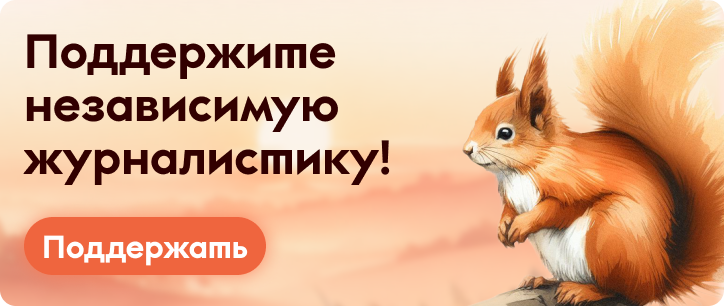Следопыт сам не оставляет следов. Ну, почти.
Есть люди, для которых внешнее значит много: появиться перед публикой, выступить, подписать. О тех, кому важнее всего — оставить свой след, писать легко.
Человек же, посвятивший жизнь поиску послустертых следов прежних поколений, сам не склонен вырезать анаграммы на скалах и деревьях, вытаптывать своей обувью ландшафт настоящего, которое стремительно становится прошлым. Может, потому, что знает, насколько смешно это выглядит. А, может, потому, что есть в этом нечто неуместное, — прикладывать специальные, без необходимости, усилия только для того, чтобы остаться в чьей-то памяти.
Кроме амбиций, бывает и другое. Например, приоритет, «научный приоритет». Так ведь, нет, — сколько раз при разборе «захоронок», когда речь шла о документах из архивов диссидентских времен, о «Хронике текущих событий», я слышал от его друзей: «Сеня, но ведь это, кажется, ты и писал?» Школа самиздатских времен: ну да, писал. И рукописи «не сгорели», — то есть, нашлись люди, прочитавшие, вдохновленные, перепечатавшие и передавшие дальше. И это главное. А не авторство, не подпись.
* * *
Но следы всё-таки есть.
Что-то есть в биографиях, но кто их читает? Место рождения — Вольск Архангельской области. Отец, арестованный в 1938-м, после лагеря определен сюда в ссылку. Умер на следствии в 1951-м, после второго ареста. Возвращение в Ленинград.
Тартуский университет. Школа Лотмана, в то время — «Мекка» гуманитарного знания. Не просто учеба: Арсений, когда учился, жил в доме Юрия Михайловича.
Здесь же, в Тарту, — еще до того, как появилось само слово «диссидент» — знакомство с будущим диссидентским кругом, — например, с приехавшей Натальей Горбаневской (читайте Улицкую!).
Причастность к русской культуре и истории. То есть, к истории борьбы за свободу, — а что еще есть русская история?
Память о терроре. Терроре государственном, и терроре революционном. О том, как вчерашние борцы за свободу становятся новыми жандармами. Как сами становятся жертвами собственноручно созданной машины. И как искусно это страшное будущее прячется в самом освободительном движении. И — несмотря ни на что — освободительное движение не сводится к тем победителям, которые тут же успешно занялись истреблением вчерашних соратников…
Поиски и восстановление преемственности – та работа, в которую внесла огромный вклад и «тартуская школа». Один – но важнейший! – пример из истории «народников», — письмо Стефановича Дейчу, найденное Арсением Рогинским и его другом Львом Лурье и опубликованное Лотманом в «Ученых записках Тартуского университета». Размышления публикатора о «революционной этике», об иерархии в революционной среде, о «революционном генеральстве» актуальны и сегодня (а ведь к делу Развозжаева-Лебедева это относится не меньше, чем к делу Красина-Якира).
Может, поэтому у Арсения Рогинского нет «лампасов». Может, отсюда — нелюбовь к вхождению в «советы и комиссии» и к хождениям в высокие кабинеты, хотя зовут.
* * *
История России началась не в 2012-м, и не в 1985-м, не в 1956-м и не в 1917-м. Она была многократно переписана теми, кто желали бы стать «первыми людьми на земле».
История России, — в том числе история «грубых и массовых нарушений прав человека» — непрерывна и неразрывна. Это раз. Преемственность важна, — однако преемственность, не сводимая к «наследственным заболеваниям».
А еще историю России любят сводить к большим, — чтоб побольше нулей, — числам расстрелянных, посаженных, умученных. Но людей надлежит считать не нулями, а единицами. История, биография отдельного человека, — вот исходный и основной масштаб работы. Это два.
Собственно, на этих двух «ногах» стоит теперь и «Мемориал».
А еще история не сводится к собраниям «городских легенд», — ведь мифологизация немногим лучше забвения. И после «Московского обращения» 1974 года Рогинский с группой таких же молодых энтузиастов начал выпускать независимый исторический сборник «Память». Неофициальный — не значит «любительский». Оказалось, в Самиздате можно выдержать академические стандарты. А случайных свидетелей работы, вдруг догадывавшихся: «Вы делаете самиздат!» — можно было огорошить ответом: «Где вы видели самиздат со сносками?»
Итог закономерен: в 35 лет вроде как кабинетный ученый тартуского разлива и замеса попадает в уголовный лагерь. Почему в уголовный? Органы КГБ, подчинявшиеся органам партийным, в тот год испросили и получили в «инстанции» (в Отделе административных органов ЦК КПСС) разрешение на осуждение «в общеуголовном порядке» троих питерцев: Рогинского, Азадовского и Клейна. Последнее слово Рогинского на суде было — о положении историка в Советском Союзе…
В рассказах о лагере Арсений Борисович в последнюю очередь выглядел героем (хотя истории про то, как он сидел вместе с чеченцами, как и рассказы других диссидентов, определенных советской властью на общий режим, очень помогли мне потом в работе на Кавказе). Едва ли не главным в этих историях было — не показаться «вождем», не соблазнить «романтикой революции».
И — не подавить величием всезнания.
Как-то Рогинский заметил: «У меня было два учителя жизни: один — Сергей Адамович Ковалев (дело было на юбилее Ковалёва), другой — Михаил Яковлевич Гефтер. Первый из них, когда я его о чем-то спрашивал, тут же говорил мне: «Ну как! Всё просто!..» А второй обычно отвечал: «Голубчик! На самом деле всё было значительно сложнее!..»
А дальше… дальше был «Мемориал». Если бы у меня был вкус, чувство такта и стиля, то тут бы я и подвел черту.
* * *
Есть и иной взгляд на историю России, куда более распространенный. Вот у Довлатова в «Заповеднике» про Пушкинские горы, о директоре: «...Хочет создать грандиозный парк культуры и отдыха. Цепь на дерево повесил из соображений колорита. Говорят, ее украли тартуские студенты. И утопили в озере. Молодцы, структуралисты!..»
Один из «молодцов» — Арсений Рогинский. Быть в том кругу, из которого вышел и который бесконечно описывал Довлатов. И «спрятаться» безымянным в этой чудесной, как хокку, истории.
Одни пытаются сделать из отечественной истории «грандиозный парк культуры и отдыха». А другие борются с разного рода цепями. В этом — жизнь и судьба Арсения Борисовича Рогинского.