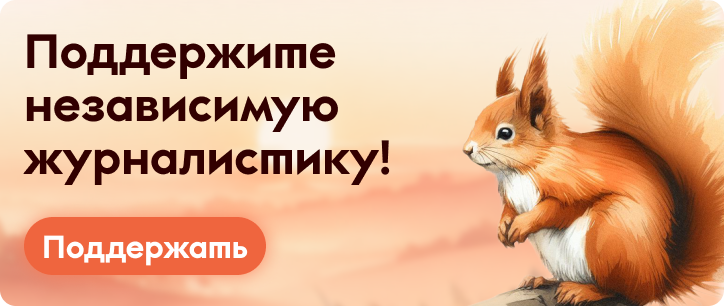«В стране же действительно фашизм»
http://www.colta.ru/articles/literature/8414
ТИМУР КИБИРОВ: БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
текст: Антон Боровиков
В петербургском издательстве «Пушкинский фонд» вышел новый сборник стихотворений Тимура Кибирова «Время подумать уже о душе». Антон Боровиков поговорил с автором об эстетике и этике, политике и литературе, традиции и новаторстве.
— Кто вы — авангард или традиция?
— В последние десятилетия такое противопоставление снято. Если речь о вменяемых литераторах и художниках. И весь XX век снималось. В начале него — да: вот он, авангард. Вот она, традиция. Крученых, Бунин. А Набоков — традиционен, авангарден? На мой взгляд, он больший новатор, чем тысяча Крученых. Его романы головокружительно по-новому сделаны, при этом — на первый взгляд — традиционно. Ходасевич — традиционный поэт или новатор? Четырехстопные ямбы. Но новизны больше, чем в Бурлюке или Игоре Северянине. А сейчас попытка следовать авангардным лекалам — в поведении и в генерации текстов — архаична. И такая новизна, и формальные приемы — были. Более того, хлебниковское словотворчество… Да у Гомера было! Надо не придумывать буквы, а составлять из существующих смыслы. Арсенал приемов, средств выразительных, накопленный за тысячелетия, огромен. Используй! Для этого — одно, для того — другое.
Авангардом называют смешно копирующих художественные практики столетней давности, а традицией — невменяемо не заметивших XX века в искусстве. И те, и другие абсолютно неинтересны, находятся за границами живой литературы. Маловразумительное слово «постмодерн»… С наследием приходится вступать в те или иные отношения, иначе — невозможно. Тексты от Гомера до Дмитрия Александровича Пригова — такая же реальность, как и Битцевский парк, и я живу…(Наклоняюсь, заглядываю за штору.) Нет, он в другой стороне!
Я живу и в ней. Если хочу честно и правдиво описывать свою жизнь — как лирическому поэту, мне ничего больше не остается, — приходится и отношение к традиции описать. Что не всегда легко и не всегда получается, но поражает непониманием коллег. Искренним. Одни против книжности, как душа поет… Да не поет душа четырехстопным ямбом с той или иной системой рифмовки — или тем более венком сонетов. Душа поет так, как ее научили или как ты сам придумал.
— Если в литературе нет настоящего авангарда и традиция не выражена, то в религии она выражена. Почему в православии нет авангарда?
— Православие — наследие двух тысяч лет, и… Сразу оговоримся, забыли вначале: я — не социолог, не политик, не филолог. Да и не теолог. Для человека, который верит, что это все не просто культурное явление, а действительно истина… Действительно был рáспят и воскрес грехов ради наших, религия — несколько иной пласт бытия, тогда как литература — дело сугубо человеческое. Церковь — дело не только человеческое. И тогда она не должна полностью зависеть от изменчивости человеческих вкусов, мод и страстей. Как православие, так и католичество — православие больше, католичество меньше — держатся тысячелетних правил. Должны ли они меняться? Не моего ума дело. Ничего не ломая, в православии и в католичестве есть достаточная свобода, чтобы реагировать на нашу изменчивую жизнь.
В современной российской церкви много тревожного, если не сказать — ужасного. Многие высказываются: некоторые — с болью. Некоторые, боюсь, со злорадством… Мне кажется, Церковь не выполняет свою социальную функцию. Ее роль нельзя сводить к социальному долгу, но он есть, она им пренебрегает. Возобладал соблазн дружить с властью, не ссориться, иногда — прямо быть властью. Очень печально. Но обязательно помнить о десятках и сотнях рядовых — не одних московских и питерских — батюшек, которые не подвержены соблазну и выполняют свою роль. Жена, которая более воцерковлена, чем я, больше живет этими интересами, показала выступление провинциального священника. Не где-нибудь, а на казацком кругу, он говорил в лицо такие потрясающие вещи — спокойно и умно, как и должен говорить священник. Про войну на Украине, про аборты. Таким священникам, думаю, очень непросто, не очень комфортно, иногда — небезопасно: люди зависимые, гораздо больше, чем мы с вами.
— К атеистической критике общества все привыкли. Но как критиковать с духовных позиций?
— Это должно. Я пытаюсь.
— Но вы не до конца свободны, ограничены верой.
— Я разделяю ее, она мне кажется нужной и необходимой. Не собираюсь же я все критиковать: я — не мятежник, не бунтарь, не романтик. Надеюсь, просто нормальный человек, которому посчастливилось обладать литературными способностями. Произвожу тексты. Против того, что плохо, — бунтую. Но есть много вещей хороших, которые стоит славить.
— Иисус Христос — Слово Божие. Вы пишете слова. Почему не считаете свое дело святым?
— Потому что я — нормальный человек. Соблазн считать свое дело самым главным и едва ли не святым часто возникает. Увы, многие не сознают его как соблазн и не борются с ним. Ну… Это ж сумасшествие. Неадекватность. Одна из вредных поэтических идей: поэт — неизбежно невменяемый человек, полусумасшедший. Что не выдерживает проверки историей литературы: Пушкин вменяем, Тютчев — тоже, Фет — вполне рассудительный, скуповатый и успешный хозяин поместья. Уверен, если бы Мартынов промахнулся, Лермонтов лет через пять-десять был бы здравым человеком, может, оставаясь не очень приятным. Мой лирический герой бывает даже противноват, но нормален.
— Если я — православный, то мои действия — результат или свободы воли, или благодати.
— Резонно!
— Но если вы полностью не контролируете процесс писания, не можете по желанию писать днем и ночью, то ваше творчество — результат не зависящей от вас благодати. Ваше дело — божественное!
— Сколько ни открещиваться от всякой мистики — «Ах, поэт», наитие сверху, «богов орган живой» (Тютчев о Пушкине. — А.Б.), нельзя окончательно отбросить ощущение, что рождающийся текст кем-то немножко надиктован — в начале. «Касание мирам иным» происходит. Но диктуют не обязательно из небесной канцелярии. Может быть, из совсем другого департамента.
— В смысле… (Показываю указательным пальцем в пол.)
— В смысле! В этом самом смысле. И поэтому ответственность полностью на тебе и ты должен различать, кто шепчет, хорошее — или плохое. Но, в конце концов, мало ли кто шепчет — говорю все равно я; конечная ценность высказывания зависит в большей степени от того, как я умею артикулировать. Не исключено, что самым смехотворным графоманам ангел шептал в ухо удивительные песни, но, поскольку они не обладают способностью производить тексты — нé дал Бог, — получается черт-те что. И возможно, что в исключительных текстах человек почти ничего не слышал, просто увидел пролетевшую птичку — но намека хватило, чтобы создать чудесную поэму. Лучше же поверять свои тексты, как и бытовую речь: глупо — не глупо, хорошо — не хорошо, к чему сказал, к чему поведет, что имеешь в виду. Не соблазняешь ли кого-нибудь, не внушаешь ли зловредное. Вначале — толчок откуда-то. Откуда? Непонятно, некий сигнал, который уловил, — отблеск или зрительное впечатление — или вдруг слово повернулось, какая-то фраза… А потом — нельзя ответственность слагать — уже не диктуют, сам решаешь: достойно или недостойно. Ответственность — полная.
— Полная, но лучше писать побольше стихов, в том числе — политических.
— Не всегда (смеется)! Я — люблю. Иначе чувствую себя нехорошо, некомфортно, раздраженно, тоскливо. Но тешусь надеждой, что до сих пор не писал автоматически. Соблазн возникает: сесть, взять ручку, писать — более-менее что-то… пристойненькое. Ненужное никому — но вроде… Спасают два обстоятельства: я страшно ленив, пишу только тогда, когда уже чувствую: это да, хорошо, эх, надо сделать. Только когда получаю кайф, делая новое — что раньше не умел. А второе обстоятельство: стихи не приносят денег. Дилетантское занятие, не работа. Даже у больших поэтов бывает: завелась шарманка, вместо одного стихотворения накручивается сборник на 100. В первом что-то было, а дальше можно не писать. То, что можно не писать, — и не стоит. Можно лишь молить высшие силы. Возможно, я так говорю, а на самом деле сам давно этим занимаюсь.
— Поэзия не самоцельна, ею вы совершенствуете себя и мир. Каков ваш уровень совершенства?
— Не знаю, не знаю. Надо быть уж невменяемым человеком… Тут много забавной фальши накопилось, которую в последние годы почувствовал. Все начинают: «Ну, я не знаю, судить читателю» — конечно, так. Но, с другой стороны, я, в отличие от чукчи, не только писатель, но и читатель. Много прочитал. И вроде с хорошим вкусом — могу отличить хорошее стихотворение от плохого. Если написал стихотворение и, более того, отдал в издательство или в редакцию, значит, оно мне нравится — если б не нравилось, не публиковал бы. Что ж позориться-то? Я бы хотел, чтобы оно было лучше. Я знаю, что ослепительно яркий, чудесный образ, который созерцаешь, когда начинаешь писать, недостижим. Получается хуже. Казалось, что-то совершенно волшебное родится по совершенству… У меня претензий к своим текстам очень много, но они мне нравятся.
— В 20—30 лет вам хотелось писать социальные стихи? Сегодня их пишут по преимуществу поэты такого возраста.
— У подавляющего большинства тех, кто моим странным делом занимается… Не очень выбираешь. «Решил писать на какую-то тему»… Или «решил написать книгу любовной лирики»… Так не делается. Возникает желание нечто выразить. Потом подыскиваются средства, а как оно возникает — тайна, не знаю. В молодости множество идей конкурируют. Гораздо важнее отношения с предметом страсти, чем мировые кризисы. Молодой человек будет и думать, и писать о любви, не о «властителях и судиях». Пожилым свойственнее созерцать круг идей менее интимный. Сколько бы сами поэты ни спекулировали, они мало чем отличаются от инженеров, сантехников, шоферов. Если б мне было 19 или 20 лет, было бы очень много других забот — отношения с девушками, с друзьями, не судьбы мира, а собственная: косить от армии или нет… Для молодого человека это не менее важно, чем судьба России.
Даже у больших поэтов бывает: завелась шарманка, вместо одного стихотворения накручивается сборник на 100. В первом что-то было, а дальше можно не писать.
— Вы знакомы с творчеством авторов 90-х годов рождения?
— К сожалению, совсем не знаю молодую поэзию. За это бы тоже надо стыдиться, но я не стыжусь. Она без меня прекрасно обходится, ну и я более-менее без нее. Своего приятеля Юлия Гуголева все считаю по привычке молодым поэтом, а вообще ему 50 исполнилось. Кирилла Медведева немножко читал. Он не самый мой любимый поэт… Мне интересны Гуголев, [Андрей] Родионов и [Мария] Степанова.
— Вам всегда была присуща дидактика. Но в юности — меньше?
— Самое страшное чуть ли не с середины XIX века: «Ах, как же так, морализаторство, дидактика». Почему, собственно говоря?! Всегда раздражают гипотезы, которые выдаются за аксиомы. Но тысячелетия все искусство было сугубо дидактическим, зачастую — прикладным. Запрет на нравоучение обедняет возможности искусства. Что есть несвобода. И было интересно: возможно писать хорошие, интересные, современные стихи — Золотое Правило современного искусства нарушая. Человек должен сознательно выбирать для себя правила, а не повторять то, что было сказано в начале XIX века бурными романтическими гениями для своего употребления. Поэтому я считаю, что искусство имеет право быть нравоучительным. И дидактическое искусство может быть скучным, и демоническое, и сатанинское может. Вопрос таланта. Да, нравоучительно — и очень хорошо.
— Какие дидактические произведения искусства вам интересны?
— Все хорошее искусство вполне нравоучительно. По определению. Человек, который берется создавать текст и навязать его читателю, публикуя, с неизбежностью навязывает свой взгляд на мир, оценки: хорошо-плохо, красиво-некрасиво. Литература — не литература. Владимир Сорокин — не менее, чем дедушка Крылов. Более сложная мораль, урок — но навязываемый.
— В наше политически понятное время вам, учителю, — скучнее и проще?
— Кому понятное (усмешка)? Кому-то понятно, кому-то не очень…
— Тогда — наоборот: многим надо разъяснять?
— В первую очередь — себе. Даже сугубо прикладные, едва ли не агитационные стишки из последней книги нужны были, чтобы что-то уяснить и проговорить для себя. И, даст Бог, для кого-то еще. В молодые годы взял из «Приглашения на казнь» Набокова формулу литературного творчества. Цинциннат: «на-на-на… Высказаться — всей мировой немоте назло». Немоте, глупости, жестокости, энтропии. Обозначить смыслы. В понятиях XIX века — «сказать правду». Это — так, это — подло, это — смешно, и над этим надо смеяться. А это — стыдно.
— Образ интеллигента, пишущего стихи, не вяжется с поучением…
— Плохо. Образ советского интеллигента. У него помимо заслуг, зачастую героических, — масса черт жуткой несвободы, полурабских-рабских. Кухня, боязнь и невозможность сказать. Английскому интеллектуалу эти черты несвойственны. Потирание запотевших очков… Английские — вполне боевые. От левых интеллектуалов до Льюиса, Толкина… А мы — бедненькие родственники, нужно меняться.
— Соединяете ли вы философию с поэзией? Это может помочь политической критике.
— Не знаю. О степени философской глубины уж точно судить просвещенному читателю. Простодушно ищу способ поделиться тем уровнем постижения мира, который мне доступен. Это философия? Вряд ли. Философия — что-то отдельное, не очень ведомое мне, в отличие от истории поэзии. Ту я не очень хорошо знаю и вряд ли уже узнаю. В досужем литературоведении очень любят рубрику «философская лирика». Пейзажная лирика, любовная лирика, гражданская лирика. Философская. Такой — довольно много.
— Очень часто социальные поэты сопрягают философию, социальную критику и усложненный язык, не оставляя места для простодушия. Оно для вас важнее?
— Полностью уверен, что задача любого литератора — довести свой текст до максимально возможной простоты и внятности. Это правило непреложно. Другое дело — существуют настолько сложные идеи, что, не искажая их, невозможно написать просто. Поздний Мандельштам не занимался тем, что писал непонятные тексты. Мои идеи довольно простые. И у большинства литераторов не очень сложные идеи. Я — за простодушие. Если хочешь сказать, что России грозит фашизм, — так и напиши. Не придумывай метафоры и метаметафоры, эта идея не требует. В самом конце школы мы с одноклассником ухаживали за одной девушкой. Бедная металась: кого все-таки избрать. Я играл на бас-гитаре, а приятель — на ритм-гитаре, но зато пел!.. Вся школа наблюдала за этим, у приятеля прямо на семейном уровне обсуждали. Его отец, крепкий подполковник, политработник, сказал (пародийно стиснул зубы): «Что ты мямлишь? Что ты мямлишь?! Да скажи честно, прямо: люблю Кабанову безумно!» И мне очень часто хочется выступить как подполковник, когда читаю невнятные и чрезвычайно мудреные тексты. Если же действительно открылись тебе тайные бездны… Свойство языка, любого говорящего человека — быть максимально внятным. Если понимаешь, что не меньший долг — в погоне за внятностью не искажать собственную идею.
— Но каждый поэт — и внятный, и невнятный — про свою Кабанову понимает, читатели же ограничены у обоих, денег стихи не приносят ни тому, ни другому — так зачем все это?
— Что, собственно говоря, хлопотать? Резонный вопрос. В последние десятилетия… меня страшно забавляет страстность, бушующая в поэтическом мире. Ненависти, любови — и совершенно непонятно, что люди кипятятся… Из-за пяти читателей… которые распределены, и, что бы про меня ни писали, их больше не будет, не будет… И меньше не будет. Внушить тем, кто привык меня читать, что Кибиров — примитивный и плохой… Они скажут: «Нет, мы любим». Равно как тем, кто привык считать меня примитивным и плохим — хоть убей… В лучшем случае: «А то стихотворение — ничего, не похоже на Кибирова» — такие случаи бывают.
В конце концов, не наше дело, сколько десятков читателей у нас. Писать не будешь без ощущения, что влияешь на мир. Существенное нужно сделать максимально хорошо. Многим представляется, что поэзия не должна быть понятной. Возможно, невнятные и мутные стихотворения, к которым я отношусь с пренебрежительной усмешкой как к провинциальному выпендриванию, останутся и будут считаться поэзией. А мои, столь любимые мной, никто не вспомнит — это непонятно. Но я люблю такое. Я люблю Пушкина.
— В вашу новую книгу вошли стихотворения разных лет?
— В этой последней книге я поленился датировать все стихи — может, было бы любопытно читателю — есть новые, только что написанные, и совсем старые. Одно, по-моему, начала 80-х. Абсолютно оказалось созвучным моему теперешнему настроению и обстановке. Плохо всегда помню, по бумажке читаю… «Далеко ль до беды? — Недалече! Так вот прямо, милок, и ступай». Пресловутые годы застоя…
— Чем оно созвучно сегодняшней России?
— У всех… Увы, не у всех, но у просвещенного сообщества возникло ощущение не просто застоя, а надвигающейся беды не беды… отсутствия свободы. Ну а что, о чем тут говорить… В те самые «лихие 90-е» я — думаю, не один — перестал ощущать стыд за свое государство. Да, были бедные, и такие, и сякие, неустроенные — но, что называется, бедность — не порок. Лично — просто гордился: какие молодцы, из такого ужаса, которым является советская власть, выходим без посторонней помощи… Для людей моего поколения — очень сильное и приятное чувство. После жуткого стыда брежневских, андроповских, черненковских времен…
— Путина вы поверяете Брежневым: «Людей любил он вежливых, / Гимнасток и ткачих… / Каких еще вам Брежневых / И Сталиных каких?»
— Стыд был невыносим под конец, и уже опять стыдно, тревожно. Опять абсолютное непонимание между… Не буду подбирать слова. Между интеллигенцией и подавляющим большинством народонаселения. Абсолютное, и отчужденность — печальна, тревожна и не сулит ничего хорошего.
— Разрыва интеллигенции и остальных не было в 90-е?
— Подозреваю, и в 90-е был, но мы особо не обращали внимания, сами шумели, слушали исключительно себя и не задумывались…(с карикатурной важностью) Нам книжки издают, и наши книжки издают, вдруг получили возможность ездить, посмотреть мир… А что при этом думают в каком-нибудь Кирово-Чепецке люди, оставшиеся без работы... Объяснимо, но, боюсь, непростительно. Из-за этого все, может, так печально и обернулось. Вам на нас плевать? Ну и нам на вас.
— Вы первые наплевали, не на вас?
— Интеллигенция — по определению мыслящая часть. С нее же и спрос больше. И что, по большому счету, профукали свободу — на нашей совести. Упрекать колхозников, которые не стали в одночасье улыбающимися американскими фермерами — а с чего бы стали? Мы не смогли заниматься не самоупоением, а тем, что в России многие века единственно актуально и единственно необходимо… И чего толком никогда не делалось — просвещать, объяснять, что происходит.
В молодые годы взял из «Приглашения на казнь» Набокова формулу литературного творчества. Цинциннат: «на-на-на… Высказаться — всей мировой немоте назло». Немоте, глупости, жестокости, энтропии.
— Когда вы впервые поймали себя на том, что профукали свободу?
— Довольно рано. Я всегда немножко был озабочен непониманием между интеллигенцией и народом. Чуть больше сталкивался, чем многие коллеги, с людьми других сословий. В казарме. Детство-отрочество и начало юности провел не в столицах, а в военных городках, где отец жил и где люди мне не совсем чужды. Но я опять-таки писал стишки, только это умею — если умею. Запомнился яркий и комичный пример: идет какой-то 91-й год в полуголодной, непонимающей стране, растерянной. По телевизору — какое-то новогоднее празднество, очень ново, все наши чудесные медиаперсоны — в смокингах и галстуках бабочкой, с шампанским!.. К камерам подносят его — и: «Присоединяйтесь!» Полная невменяемость… Кто, с чем присоединится? Дай бог спирт какой-то польский достать и развести… А-а… Что вы делаете, что? Вызываете ненависть. И! Итог? «Да, конечно, эти все интеллигенты — пятая колонна, они нашего Путина ненавидят, потому что жировали… А он их всех прижал, и теперь опять мы можем…» Стыжусь, а большинство народонаселения — гордится. Опять мы — сильные, и опять — враги против нас, ну и что, сплотимся, и бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Все несется в какую-то бездну.
— Перед кем неудобно?
— Перед собой, перед Богом. Перед кем обычно люди стыдятся?
— Социальный стыд — перед тем, кто по улице рядом идет, — понятен. А ваш…
— Вы хотите сказать, совесть обусловлена сугубо социально и, если меня никто не будет видеть, во все тяжкие пущусь? Боюсь, что… Не боюсь, надеюсь и уверен, что нет. Мы плавно переходим к вопросам метафизическим и религиозным. Я — верующий, хотя большинство православных меня бы не признали своим братом. Я стыжусь, когда понимаю, что не выполнил долг. Должен был. Не мог или не сумел, поленился, струсил… Кроме раздражения, недовольства — еще и стыд.
— Сейчас Россия глубже расколота, чем в 90-е?
— Да. В начале 90-х все сближались, надоела советская власть. Кто-то сознательно ее ненавидел и презирал, кто-то просто понял, что, ну... Глупо. Ясно, не так уж все были против нее. Но все мало-мальски активные во всех слоях общества — были. Единомышленников оказалось очень много. Брежневское время — как теперь: нас совсем мало, дело наше обречено, все плохо и все очень надолго, едва ли не навсегда. Может, и сейчас все окажется небезнадежно и ненадолго?
— Перед первым стихотворением нового сборника помещен эпиграф из Путина. Почему вы решили начать с него?
— Сейчас я совсем не смотрю телевизор — «Дождь» и иногда «Культуру», от остального начинаю беситься. В стране же действительно фашизм. Если у слова «фашизм» есть твердое значение, то это — фашизм. Мы живем еще не в гитлеровском, но вполне в муссолиниевском фашистском государстве.
Наверное, кто-то из чудесных помощников подсунул президенту, что неплохо бы сказать в рифму. Когда год литературы был, или год культуры, или какая-то херня… Молодой, ершистый писатель задал Путину вопрос. Кто-то из ребят, которых за Болотную еще не посадили — судили только, стихи писал. Мол, он — поэт, почему бы к нему не проявить милосердие… Тоже странно: почему к другим не проявить, чем поэты отличаются? На что Путин выдал: «Музам служит, а с головой не дружит». Это — нота, эпиграф, должен сразу обозначить: и об этом будем говорить, а потом — попытаемся вывести все на более высокие уровни.
— Что Путин для вас значит? Если вы взяли его фразу эпиграфом к самому первому стихотворению, которым открывается книга.
— Просто продукт некой среды, среды мерзкой, гэбэшной. Как получилось, что он оказался во главе ядерной державы, — честно говоря, не понимаю. Или совершенно идиотская случайность, сцепление случайностей — или, если возвращаться к тому, что я все-таки какой-никакой, а христианин: его власть явно от дьявола… Это бесовская власть. Средоточие всех возможных соблазнов для нашей страны. Всех возможных гнусностей. У меня были в начале путинского правления иллюзии, совершенно постыдные и глупые, очень недолго. Мне хотелось верить, что он будет русским Пиночетом, прижмет и урежет свободы, зато быстро проведет либеральные экономические реформы. Свободы урезаны, реформ не проведено. Самое страшное: за всем этим нет никакой — даже призрачной, даже выморочной, как у коммунистов, — идеи. Никакой. Плохой, хорошей, ужасной, дьявольской. Нет идеологии. Идеология шпаны. Шпаны. Глупость и гонор. Держать власть. Быть. Не пускать других на свой двор. «Вы у меня будете (стукнул по столу) по струнке ходить, потому что у меня есть атомная бомба».
Я ни с кем не делился, понимал, что в нашей интеллигентской среде непопулярно размышлять о русском Пиночете, — но знакомая сказала: «Да брось ты. Что может хорошего быть из ГПУ?» Я страшно раздражился, потому что не люблю предвзятости: мало ли кто откуда… Но она оказалась права — из ГПУ ничего хорошего быть не может.
— Вы сказали, что фашизм в России еще не совсем в своих правах. Что будет?
— Тешу себя надеждой. По-моему, не знает никто. Все тревожатся, многие в абсолютную истерику впадают. Вполне объяснимую. Вы слышали призывы всем бежать куда-то? С более-менее прогнозируемой экономикой тоже непонятно. Прогнозировали-прогнозировали, а все оказалось не так и не так, не хуже и не лучше, а просто по-другому.
— Если б вы были художником, уехать было бы проще — им ни к чему переводчики. Не жалеете?
— Не очень стремлюсь уехать. Понимаете, все-таки… Все ужасно. Все действительно ужасно. Вы, конечно, не помните и не знаете, но я жил, когда было ужаснее. Вы у меня берете интервью, я говорю такие вещи. Если его опубликуют на Кольте, никто не испугается, никто [редактора раздела «Литература»] Глеба Морева не арестует, тьфу-тьфу.
Пока мы еще можем говорить, писать, пытаться докричаться. Пока не ждем, что раздастся звонок и нас под белы рученьки… У тех, кто раньше меня приобрел минимальную известность, — у Сережи Гандлевского, Дмитрия Александровича Пригова — были неприятности. В ГБ таскали всего лишь за заграничные публикации стихов. Согласитесь, качественно несколько иное, чем сегодня. И нужно молить Бога и делать все от нас зависящее, чтобы не вернулось, потому что нравственный и интеллектуальный уровень нынешней власти нисколько не препятствует развитию в ту сторону. Может, потому, что не хочу думать о плохом, — думаю, что в буквальном смысле вернуться и подавить свободу до такой степени, как в Советском Союзе, невозможно. Без каких-то подлинных катастроф. Я не верю, я не верю, что… Выросло ваше поколение. Вы не привыкли помалкивать. Для меня в вашем возрасте было естественным не говорить лично. Как для всех советских. Среди своих — да, но только совсем среди своих.
— Сколько человек входило в ближайший круг?
— У кого сколько. У меня — пять-десять. А на работе… Даже в чудесном Институте искусствознания, где я служил, все — милейшие люди, но лучше на определенные темы не говорить, среди милейших людей могут попасться стукачи. У Андрея Синявского есть фраза: «У меня с советской властью чисто эстетические разногласия». Очень красиво! Но вранье. Господи, делов-то! Эстетика! Нет, эстетические и этические. У меня не было тогда и сейчас нет политических взглядов. Не знаю, какое государственное устройство лучше — президентская или парламентская республика, федеративное или унитарное государство, — и знать не хочу. Есть люди специальные, они должны об этом думать. Но что красиво, что некрасиво, что добро, а что нет — я должен отличать. Как в советское время, мои разногласия с властью — эстетические и этические. Она была безобразна и подла, была дрянь. И теперь. Может быть, при нашем государственном устройстве можно было бы по-другому развиваться… Но опять жуткая советская пошлятина прет плюс эстетика солдатского борделя. Творят зло. От развращения народа безумной коррупцией — до войны, бессмысленной и ненужной никому.
— Чем коррупция развращает?
— Она всегда связана с ложью. И ложь становится тотальной. Все знают, что всё продается и покупается, но никто не говорит вслух. Опять-таки советская ситуация. Ложь — ужасна. Мы знаем, кто ее отец.
— Отец?
— Дьявол. Весь народ знает, что, конечно же, мы поставляем наше оружие в Донбасс, наши военные там присутствуют… Что более разъедающее нравственность и психику может быть? Но еще хуже. Еще и одобряем ложь! Одобряет большинство. Меня очень заботят люди, которых Путин потихоньку лишает человеческого облика. «А, вот молодец! А вы поймайте меня за руку. Вот молодец наш… Все эти дурачки — Меркели да Обамы. А вы докажите. А мы — нет, мы не поставляем». Все вернулось и касается детей, которые в такой атмосфере вырастают. Еще от советской лжи не смогли уйти — она накрутилась, накрутилась.
Но людям верующим, даже так нерьяно верующим, как я, в этой ситуации легче. Остается надежда на то, что все зависит не только от нас.
— Как вы сами меняетесь?
— Писанием текстов.
— Какова роль новой книги в вашей эволюции?
— Высказал что хотел. Сделал дело, для которого предназначен. В реальной жизни я совсем не бойкий. Особенно в последние годы — тихий, забившийся в уголок, не готовый ходить даже на вполне симпатичные митинги. Не могу, когда много людей, чувствую себя не в своей тарелке. Совсем. А в стихах я более свободен, раскрепощен, нагл, готов нарушать как официальные, так и неофициальные табу. Многим свойственно разведение лирического героя и реального человека.
— В «Школе злословия» десять лет назад вы говорили, что лучше быть похожим на свои стихи.
— Лучше. Лучше. Но это ж не от меня зависит. Зато никогда мой лирический герой ни в коей мере не романтичен, не красив, не героичен. Смешон, стар, жалок — довольно часто.
— Основное время вы проводите в центре или здесь, в Конькове?
— Здесь. Центр в последнее время мне кажется чужим, диким. Огромное количество людей, машин — какой-то ад. А здесь рядом — лес. С собачкой гулять — любимое. (Большая собака лежит на ковре у двери.) Ее зовут Джейн. (Джейн дернула лапой.) Да-да-да, о тебе говорят. Битцевский лесопарк — почти лес во многих местах, однажды я умудрился там почти заблудиться. Чудесный, типичный среднерусский пейзаж, мною любимый. Это не аскетизм, я не отказываюсь от чего-то желанного, наоборот — потворствую слабостям. Если бы чаще выходил в люди, активно участвовал в литературной жизни — в презентациях, вечерах, фестивалях, — это и было бы аскетизмом. Наверное, поступаю неправильно и непрофессионально…
— Почему вы назначили встречу не вечером? Любите середину дня?
— Раньше я, как большинство людей интеллигентского круга, образа жизни и действий, был полуночник. А теперь, с возрастом, стал рано просыпаться — и соответственно рано засыпать. И самым любимым временем стало утро… Для работы, чтения.
— Стихи этой книги писали утром?
— Нет, совершенно. Всегда в разное время писал, и сейчас тоже. Слава Богу или к сожалению — это не сильно зависит от человека: когда случится, тогда случится.