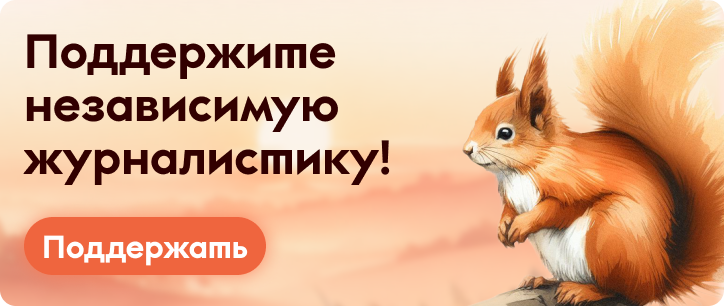Роль анекдота
Лев Рубинштейн, 02.12.2014
Из журнала «Грани».
Недавно, вдохновленный, видимо, некоторыми причудливыми особенностями нынешней официальной пропагандистской стилистики, я сочинил такую небольшую штуку - пародию не пародию, стилизацию не стилизацию. Одним словом, такое:
Да, наш президент действительно во время заключительного банкета опрокинул соусницу на брюки одного из партнеров по переговорам. Да, после этого он действительно загадочно усмехнулся, вместо того чтобы униженно извиняться.
Только либо очень недалекий человек, либо сознательный враг нашей укрепляющейся государственности способен сказать в связи с этим что-нибудь о "невоспитанности" или, тем паче, "хамстве" нашего лидера.
Каждый разумный человек - и в нашей стране, и за рубежом - хорошо понимает, что это был тонкий, но отчетливый сигнал, означающий только одно: время, когда о нашу страну можно было безнаказанно вытирать ноги, безвозвратно прошло.
Ну, и разместил это забавы ради в интернете. Первый же комментарий был такой: "Вы извините, я уже утратил способность различать, где пародийная стилизация, где цитата. Приведенный вами текст - это первое или второе?"
"Вот в том-то и дело, - ответил я, - что это я, допустим, сочинил сам. Но ничуть бы не удивился, если бы это сочинил кто-нибудь "другой".
Время от времени те или иные жанры словесности исчезают из культурного обихода, сменяясь новыми. И это, в общем, всегда печально.
К середине 90-х годов, например, пришел в упадок почтенный, имеющий богатейшую традицию жанр устного рассказа, расцвет которого пришелся на поздние советские годы. Потому что приемы, методы, сюжетные ходы этого жанра плавно перетекли в газетно-журнальное пространство. Устное творчество стало письменным и печатным, утратив во многом свое былое обаяние, основанное на уникальности и эффекте присутствия.
Такое происходит и сегодня.
Какой, например, теперь возможен анекдот, если мы все вдруг очутились внутри анекдота, подменяющего собою реальную жизнь с ее сложившимися представлениями о норме и патологии, о реальном и фантастическом, о мертвом и живом, о смешном и серьезном. Обнаружив самих себя внутри скверного анекдота, мы с ужасом и тоской осознаем, что в этом анекдоте ничего смешного нет. А если мы и смеемся, то скорее по инерции. Это, можно сказать, затухающая память жанра.
Мы попали в странную, невиданную прежде ситуацию, когда анекдот буквально ничем не отличается от очередного откровения депутата Государственной думы, а телевизионное ток-шоу на актуальные темы - от цирковой репризы. Когда человек всякий раз должен недоуменно, хотя и вполне риторически, спрашивать уже непонятно у кого: "Они это что, серьезно, что ли?"
Вопрос о том, серьезно это или в шутку, уже не актуален. Да какая разница - серьезно, не серьезно. О чем вы вообще...
Отсутствие страха показаться смешным или нелепым свойственно трем категориям. Это маленькие дети, не успевшие усвоить элементарные культурные коды и нормы. Это гении, твердо знающие, что смешное сегодня завтра может стать великим, потому что, как известно, одно от другого отделяет только один шаг. И, наконец, это люди, наделенные абсолютным, обескураживающим и вполне осознанным бесстыдством, положенным в основу публичного поведения. Формалист назвал бы это "бесстыдство как прием".
Да, это действительно прием, достойный исследования и осмысления. Но лишь после того как выветрится из общественной атмосферы невыносимый дух сероводорода и рассосется мыльный привкус во рту. Пока, увы, приходится затыкать нос и отплевываться.
На фоне торжества этого приема - уверен, что временного, хотя пока и бесспорного, - такие почтенные приемы, как гротеск и пародия, утрачивают свои инструментальные возможности.
Многие годы социальное и культурное поведение людей, хотя бы как-то образованных, подпиралось со всех сторон кодами, знаками, образами, категориями, текстами культуры. Подростку все же, как правило, хотелось быть хоть сколько-нибудь похожим на, допустим, Петрушу Гринева или, например, на Печорина, и совсем его не радовало, когда его сравнивали, скажем, со Швабриным или с фонвизинским Митрофанушкой. А взрослый вряд ли был доволен, когда о нем говорили, что он изъясняется как персонаж Зощенко, а ведет себя как Крошка Цахес.
Риторика, язык, стиль пропаганды позднего советского времени были откровенно и как-то даже демонстративно "далеки от народа". Так называемая обратная связь там даже и не предполагалась. Повторяемые из раза в раз мантры про идеологическую борьбу, про американский империализм или китайский гегемонизм не достигали не то чтобы мозгов, но даже и ушей, они не задевали воображения, не жгли глаголом сердца людей, они существовали лишь потому, что им предписано было существовать.
Официальный язык коммунистической власти, язык партийных документов, резолюций, докладов, газетных передовиц, лекторов общества "Знание" был заведомо "другим" языком, совсем не тем, на которым изъяснялись в обыденной жизни, в научных дискуссиях или, тем более, на интеллигентских кухонных посиделках или в мастерских художников. Это был совсем отдельный, сакральный язык, который не задевал, не протекал внутрь, служа лишь неизбежным шумом, отгородиться от которого было в общем не так трудно. Это был тоскливый бесконечный дождь, но дождь этот шел все же за окном, а не капал за шиворот с дырявого потолка.
А вот эти, нынешние, говорят как бы на одном с тобой языке, невольно заставляя вслушиваться и пытаться понять, о чем вообще речь. И это самое мучительное для человека, привыкшего к тому, что слова, знаки и жесты что-то означают.
Постепенно приходит отчасти спасительное, хотя и не очень радостное понимание, что нет, это все же иной язык, совсем не твой, совсем не наш. Иллюзия общего языка базируется лишь на том, что они употребляют те же самые слова, что и мы, но в совершенно произвольных значениях.
И это квазиговорение на квазиязыке - тоже прием. Прием, восходящий к более ранним, основанным на мерцании, на взаимном перетекании речи авторской и речи, так сказать, персонажной.
И если этот прием осознать именно как прием, то становятся совершенно бессмысленными механические попытки поймать кого-либо на бесстыдном вранье. Когда-то уличенный во вранье клялся и божился, что он не врет, что все так именно и было, бил себя в грудь и орал, что, мол, "зуб даю" и "век воли не видать". Он хоть и врал, но знал при этом, что врать в общем-то нехорошо.
Эти же для подобного рода нравственных страданий совершенно неуязвимы. "Врем, говоришь? Ну врем. И что?" И действительно - что? Они же творят сказку, а сказка - ложь. Кто это сказал? Ну, то-то же.
Они, конечно, к делу относятся творчески. Можно сказать, с огоньком. Тут есть, конечно, и азарт, и воображение. Примерно такой же азарт и такое же воображение, с какими когда-то в годы блаженного, но и тревожного детства в пионерских лагерях на сон грядущий рассказывались правдивейшие истории про "белую перчатку" или "кровавую руку". Примерно с такими же плохо темперированными подвываниями доносятся в наши дни из телевизора поражающие исключительной достоверностью истории про то, как "в самой правой комнате, на самом правом столе, в самом правом гробу лежит самый правый сектор..."
На огромные массы людей, так и не вышедших из пионерского детства, это, конечно, производит впечатление. Так что скорбный этот труд не пропадает, нет. И пламя от искры вполне даже возгорается. Прямо на наших глазах.
Начав с самого заурядного социального заказа под лукаво подмигивающим девизом "в номерах служить - подол заворотить", они как-то незаметно для самих себя с головой впали ("эх, пропадай моя телега!") в кромешный блуд беззаветного негодяйства. Они уже явно занимаются не вполне тем, что им поручили изначально. Они уже, что называется, вошли во вкус. И боюсь, что вынуть их оттуда уже невозможно без употребления усыпительных инъекций, смирительных рубашек и без охлаждающих некоторые еще не совсем забубенные души бестактно маячащих на горизонте гаагских перспектив.
Мы все чаще говорим: это уже даже не смешно. Ну, в общем-то да, смешного мало. Но нет, все равно смешно. Просто в наши дни смеяться над смешным все труднее, все мучительнее. Так что ж - значит, необходимы усилия. Это, собственно, и есть жизнь.
И давайте условимся: мы живы, пока смешное нас смешит. Пока для нас вранье - это именно вранье, а не специфическая разновидность правды.
Это время пройдет. Я не знаю, каким будет другое время: может, лучше, а может, хуже. Но это - пройдет. И не надо уповать на тех пресловутых потомков, которые чего-то там "рассудят". Рассудить - это наше дело. Потому что мы живем здесь и теперь. А потомки пусть рассудят нас. И надо как-то постараться, чтобы судили нас эти самые потомки все же не слишком строго.