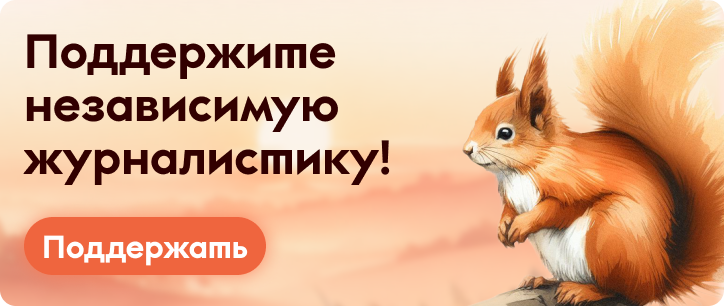Вчера, уже ложась спать, зачем-то зашла в интернет и увидела сообщение о смерти Владимира Войновича. Потом, конечно, вертелась до рассвета в постели, вспоминая встречи, разговоры и жалея всех нас, осиротевших этой ночью. Не хотелось засыпать как можно дольше, поскольку знаешь, что проснешься в день (дне!), когда его уже не будет точно.
Я познакомилась с маэстро благодаря Лене, Юре и Школе. Тогда он читал свои рассказы, а мы смеялись час или два без остановки. И хотя эти «сказки для взрослых» уже стали классикой, с его голосом они вновь оживали и звучали по-новому.
Потом были и серьезные разговоры.
Он очень переживал из-за войны России и Украины, часто начиная разговор именно с этого. Называл эту вражду противоестественной, был убежден в том, что она не сможет продолжаться вечно и что наши народы непременно найдут решение. В его языке не было слова «страшно», и только про это противостояние он говорил «ужасно и страшно то, что происходит».
Он не считал себя сатириком, говорил, что старался быть реалистом, и писал свои произведения как обращения к правительству. Свой роман «Москва 2042» он называл не пророчеством, а предупреждением, настаивал, что писал его не из вымысла или фантазии, а смотря на реалии. Отмечал, что Россию, если она не опомнится, ждет та же участь, что и Советский союз, и Российскую империю — распад и саморазрушение.
Все его произведения были средством сражения (как его «Иванькиада», в результате которой кгбшник Иванько был вынужден сменить имя). Помню, как Ирина Ясина написала в соцсети о том, что Войнович пишет новую книгу. На следующий день мы виделись, и как же он на Ирину Евгеньевну злился! Он никогда не сообщал о своих творческих планах публично. Говорил, что не собирается сам на себя доносить правительству. И строго придерживался предупреждения Салтыкова-Щедрина «интеллигент, в порыве откровения смотри не самодонеси».
Теперь уже известно, что тогда он писал свой, как оказалось, последний роман «Малиновый пеликан» — про нашу современную абсурдную действительность, не новый особый путь, советские символы, оставшиеся в нашей жизни, где «досталось» всем, как в «Ревизоре», — не только Перлигосу (Путину), чиновникам, церкви, интеллигенции, но больше всего, пожалуй, народу.
Почему-то при каждой встрече с Войновичем я невольно заговаривала про Солженицына. Как будто каждый раз забывая об их конфликте, Сим Симыче Карнавалове и Портрете на фоне мифа. И всегда было очень неловко. Хотя Владимир Николаевич старался говорить о нем корректно, отдавая дань уважения как писателю и восхищаясь «Одним днем Ивана Денисовича», было видно, насколько неприятен ему Александр Исаевич по-человечески. Как говорил он сам, он был разочарован, поскольку был очарован им когда-то. И казалось, что разговоры об этом ранили его.
Как-то я даже поставила себе целью ни разу не упомянуть при нем Солженицына, но и тогда ничего не вышло. Владимир Николаевич заговорил о том, что он считает самым главным в жизни, однозначно выбрав: не врать. И у меня вырвалось: как «Жить не по лжи» у Солженицына! На что Войнович не без укора и строго выпалил: Я и без него знал об этом. Но в этом не прозвучало амбиции, он не был завистлив, как думают многие поклонники Солженицына. Просто Войнович не потерпел бы окружения почитателей, строго-настрого запрещающих критику в его адрес, не любил пафос, не прощал, когда слова расходились с делами. Был вызывающе скромен. Сердился, если чувствовал трепет в свой адрес, и в то же время выслушивал каждого внимательно и не перебивая. Носил одежду, какую, наверное, носил еще, работая в колхозе. Никогда не видела его с портфелем и каким-то роскошным предметом, но всегда с кульком, который он бросал прямо на пол в какой бы аудитории ни очутился. С ним было надежно. Никогда не подводил, всегда приходил, даже если договаривались о встрече за несколько месяцев, видел выход из самого удручающего положения. Как-то я спросила его: что его воодушевляет и обнадеживает? Его глаза загорелись, и он с энтузиазмом стал вспоминать истории, как везде — в армии и даже лагере — он непременно встречал человека, который бы очеловечивал.
Владимир Николаевич, как и Мераб Константинович, верил, что человек «воскресает» не где-то там и когда-то, а здесь и сейчас, и потому важно достойно жить свою жизнь, потому что «жизнь одна, жизнь мала — нет времени жить и поступать не свободно, понарошку».
Хотя когда заговорили с ним о смерти, он, невоцерковленный человек, посмотрел на небо и сказал: что-то остается после нас, как облако, остающееся после самолета. И добавил: и довольно скоро рассеивается.
Страшно, когда уходят гиганты. Потому что пока они рядом, пока им можно позвонить, написать, обнять, просто послушать и знать, что они где-то здесь, на этой планете, кажется, ничто не страшно. И если делишь с ними какие-то риски, то испытываешь только счастье и благодарность. Знаешь, что они всегда найдут слова и силы для поддержки, в каких бы трудных обстоятельствах ты ни находился. Они — такие маяки, чтобы не оступиться.
Когда не стало Арсения Борисовича Рогинского — так преждевременно, когда еще столько можно было бы сделать — я не могла найти утешения и «почву под ногами». Не стало важного человека, рядом с которым было надежно. Но на его похоронах Сергей Адамович Ковалев нашел слова, оживившие меня. Он сказал: «Все говорят: Сени не стало. Но я обращаю ваше внимание на то, что он был у нас».
После чего грустить стало даже как-то неловко. Ведь Арсений Борисович не только родился, но прожил достойно такую трудную жизнь, и мы были его современниками!
Сейчас, когда умер Владимир Николаевич, я тоже чувствую утрату, но одновременно, по-прежнему, нахожу поддержку в тех словах Сергей Адамовича: Он был у нас!
И знаю, что каждое самолетное облако будет напоминать мне о Владимире Войновиче — великом человеке и авторе.
Вечная и светлая память!
P.S. Это единственная фотокарточка с ним, но зато с первой, а значит — самой важной встречи. Спасибо за нее, жизнь!