Единокровный дед полег под Сталинградом. А помню я дедушку Федю, от которого в деревенской семье, где мама была старшей, родились еще пятеро. Сколько он провоевал в пехоте, на каких фронтах — ничего не знаю. Про войну дедушка не рассказывал ничего. Он был в плену: въехал в Германию в товарном вагоне с охраной и уехал из Германии в товарном вагоне с охраной. Мурлыкал антивоенные частушки: «С неба звездочка упала, прямо милому в штаны: *** и муди оторвала. А только б не было войны».
На чердаке деревенского дома валялся траченный молью немецкий пехотный ранец. Медали лежали в шкафчике… по малолетству запомнил только «медаль материнства», бабушкину.
Дедушка ненавидел фашистов и полицаев.
Знаю эту историю в пересказе, я тогда совсем малявкой был. В колхозе праздновали что-то — свадьбу или поминки. Крепко выпивший дедушка отошел и вернулся с охотничьим ружьишком. Серьезно посмотрел на моего папу и старательно выговорил, как он его, фашиста, станет сейчас кончать. И еще добавил — матерно и витиевато. Бухнул выстрел: мимо. Ружье отобрали. Какой мой папа фашист — был он коммунист. Просто пальнуть с пьяных глаз в зятя, отца внучат — это одно, а убить фашиста — это же совсем другое дело.
Больше папа в деревню не ездил. А мама с нами, детьми, приезжала почти каждое лето.
Полжизни назад — приехал студентом после срочной в советской еще армии — видел дедушку живым последний раз. Он оказался маленький и лысенький — мне до подмышки не достанет. К этому времени был дедушка Федя уже много лет слепым: катаракта. Первые годы он по инерции ковырялся на ощупь в своей мастерской. «У Фёдорка руки золотые!» — говорили в деревне и привычно несли ему насаживать и отбивать косы, просили сделать или починить грабли и всякую утварь. Деревенский дом помнится нарядным — весь в резных наличниках и причелинах.
Последние свои годы незрячий дедушка сидел днями в низком продавленном креслице, дымил папиросы одну за другой, крутил со скуки радио. Никак не мог согреться: в летнюю жару таскал валенки, засаленные ватные галифе, жилетку на меху.
Напоследок закуролесил, как Волк Ларсен из романа Джека Лондона. Маленькие дети перед сном капризничают и шалят, бунтуют: не хотят ложиться спать. Дедушка… он не хотел уснуть навсегда.
Раз нашарил початую бутылку водки, оставленную дядьями под лавкой, допил. Тут в гости зашла соседская старушка Мария Егоровна. Придвинула стул, грузно водрузилась сверху — «Фёдорко, ****** ты старой!» — завела обыкновенную, неспешную, приятельскую беседу. Вместо того, чтобы по обычаю ответить матерной трелью, дед выхватил из-за войлочного голенища финку и ткнул в голос. Зрение дорогого стоит! Егоровна шарахнулась, с грохотом обрушилась вместе со стулом, затылком о половицы. Финку с разноцветной наборной рукоятью отобрали, пошарили и вокруг: изъяли топорик и другой ножик. «Отдайте! С войны при мне финка!» — кручинился дедушка.
В другой раз, ночью, сжал в кулаке топорище и на ощупь поковылял к бабушкиной кровати: зарубить. Огреб ногами в грудь; на шум набежали, топор отняли.
После всей кутерьмы остались мы с дедушкой вдвоем в избе.
— Напугали вы всех, дедушка! У вас бровь разбита, сейчас первую помощь оказывать буду!
— До чего мы дОжили! — он сидит на полу, маленький, старый, бессильный, с морщинистой шеей и разбитой бровью ветеран великой и страшной войны.
— Сейчас йодом смажу. Жечь будет, но я подую! — мажу йодом, дую на рану.
— До чего мы дОжили, до чего мы дОжили, — дедушка причитает слабым голосом и горестно раскачивается, спрятав кисти рук в подмышки.
Меня накрывает: представляется война, бомбежка, отступление, колонна пленных сидит на пыльной дороге в окружении чужих автоматчиков. Жалость рвет мое сердце.
— Дедушка, я на кровать вас перенесу.
Он очень легкий. Помогаю встать; он укладывается на свою кровать; укрываю одеяльцем.
— Ой, до чего мы дОжили, — тихо стонет дедушка, дергая кадыком в седых волосках.
— Я тут за столом посижу, книжку пока почитаю. Не ходите меня резать, дедушка!
— Не бойсь, не трону! — отзывается, ощупывая катарактами потолок. Горестно, со всхлипом вздыхает. — До чего ж мы дОжили-и-и-и.
Я жалею дедушку. Мне жалко любимую бабушку. Мне очень жалко всех нас…
Дедушка Федя глубоко, хрипло вдыхает. Откашливается. И неожиданно выкрикивает:
— До чего мы дОжили! К ***** печать прилОжили! Только **** раскачать к ***** матери печать!!!


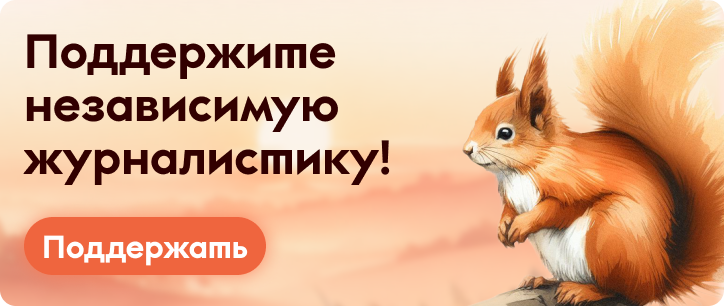
Это и есть жизнь в России, ничего не стоит или не стоит...
Смысл по моему темному разумению: никто его не понимает. Только он сам, переживший ужасный плен, когда приходилось выживать любой ценой, даже ценой предательства самого себя.
Никто никого не понимал прежде, и никто никого не понимает и по сей день. Все ленивые, все слушают радио и все смотрят телевизор, а Библию не читает никто и даже верующие во Христа не читают Христа.
Христос сказал:
Ст. 51-53 "Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей".
10:34. "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, но меч,
10:35. ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее".
Вот этими словами, словами Христа и мир был разделён - никто никого не слушает и слушать не хотят, и никто никого не понимал и никто никого не понимает - все разом говорят и никто друг друга не слушает (ЦТВ - "Право голоса")
А в иудейском плену мы все находимся и по сей день и по сей день мы все не живём, а выживаем.
Прекрасная иллюстрация к утверждению, что старость - не радость. Те, кто утверждает обратное - нагло врут.