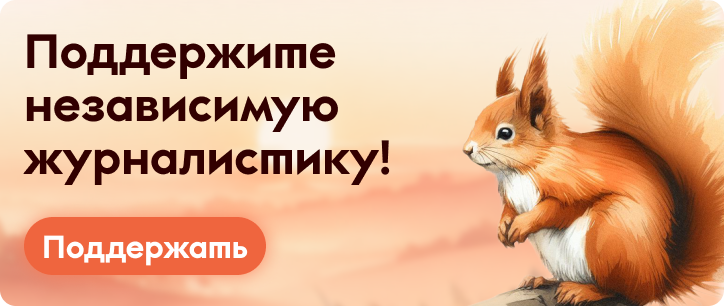Михаил Борисович Рогачев многое сделал, чтобы обелить всех ссыльных немцев..
«В СССР было немало репрессированных народов, но аналогов советским немцам нет. Другие репрессированные народы — чеченцы, ингуши, балканцы — не могут, к счастью для них, сравниться с немцами. Эта этническая группа был поставлена в такие условия, при которых она не могла выжить. И все-таки вопреки этим условиям немцы сумели выжить. Они жили в землянках, постоянно испытывая голод. Более других умирали дети. Очень часто в одной семье умирало по три-четыре ребенка.
- Поэтому во второй части десятого тома мы подготовим материалы по документам о награжденных немцах. Многие из них получили ордена и медали, стали лауреатами государственных премий. »
Прочтите эту историю.
С уважением, Кустов АК
Руки у нее, несмотря на десять лет таскания вагонетки с углем, удивительные. Пальцы тонкие, трепетные, не коснулись их ни подагра, ни артриты. Узкие запястья, пергаментная, почти прозрачная кожа.
Память в ее почти девяносто такая, какой практически не бывает. Помнит все, что происходило много лет назад, в деталях, а некоторые вещи — чуть не по минутам.
Десять лет и вагонетки не были ее выбором. Родина так решила, посчитав, что она ее, Родину то есть, предала. Родина же, убив отца, расстреляв отчима, выгнав ее из дома и родного города и запретив учиться там, где хотелось, всего-навсего выполняла суровый пролетарский долг.

Анна Васильевна Крикун родилась в 1922 году в Севастополе. Один ее дед, по-сегодняшнему, бизнесмен средней руки, имел собственную слесарно-кузнечно-водопроводную мастерскую, второй был донской казак. Отца она не помнит, красные расстреляли его в 1924 году, и могилы нет. Мама же, главная подруга всей ее жизни, вышла замуж еще раз, за морского офицера-механика Сигизмунда Василькевича, участника Цусимского сражения.
Добрались до Василькевича в тридцать седьмом, и через месяц после ареста, уже осужденный, он умер в тюрьме — от сердечной недостаточности, как это тогда водилось со многими.
Но это все присказка. Сказка начинается 14 августа 1939 года, когда Ане и ее маме было велено покинуть пределы Севастополя в десятидневный срок. Севастополь тогда был закрытым пограничным городом, для жизни там нужна была спецпрописка — вот ее-то им и ликвидировали.
— Мне нужно было идти в десятый класс, а потом я собиралась поступать в лучший гуманитарный вуз Советского Союза, московский ИФЛИ, на исторический. Учителем быть не хотела, хотела заниматься настоящей историей, в архивах где-нибудь копаться.
Историю она любила до самозабвения и еще до начала сказки, году в тридцать шестом поехав в Москву на каникулы, пошла в Донской монастырь с букетиком цветов. Цветы предназначались не романтическому поэту, а Василию Осиповичу Ключевскому, историку.
Поскольку сказка Аниной жизни — советская, то и действовали в ней не добрые волшебники, а друзья и знакомства, блат, попросту говоря, который и в те жестокие времена полностью отменить никто не смог. Даже, пожалуй, наоборот, чем суровее были законы, тем больше люди жались друг к другу и пытались хоть как-то законы эти обойти, чтобы выжить.
Вот в результате всего этого и оказались Аня с мамой в городке Обоянь Курской области, прописку им сделали в соседнем Воронеже, а Аню еще и учиться пристроили. Ну не в ИФЛИ, конечно, а на технолога сахароварения. Вот почему человек, который хотел изучать царские указы, должен вместо этого учиться варить варенье и какая от этого польза стране, я до сих пор понять не могу. Ну да ладно.
16 ноября 1941 года в город вошли немецкие части. В квартире у Ани расположились солдаты, они с мамой жались на кухне. Часть местных жителей угнали в Германию, остальных посылали рыть окопы, было голодно и тяжко, но все-таки как-то терпимо.
Однажды, уже летом сорок второго, подружка предложила ей пойти на работу получше, чем рытье окопов. И Аня, отлично знавшая немецкий язык (готовилась все-таки в ИФЛИ), стала переводчиком военного советника, выполняя всякую техническую работу. За работу давали оккупационные рейхсмарки и буханку хлеба на неделю.
— А вам не казалось, что вы делаете что-то плохое? — отваживаюсь я на вопрос.
Она вскидывается:
— Плохое делал тот, кто ходил немцам стучать. Мы же были самые обычные люди, все во время оккупации где-то работали — разве это измена? Плохое делал тот, кто по немецкому приказу людей на центральной площади вешал, немцы ведь сами этим не занимались, полицаи у них наши вешателями работали…
Обоянь освободили 18 февраля 1943 года, семь месяцев, получается, переводчиком она проработала всего, а 22-го ее пригласили в местный агитпункт, там продержали несколько дней, а потом ночью погнали в Курск.
— А почему ночью?
— А мы вроде как немецкими овчарками считались, предателями, ночью вели, чтобы солдаты воюющие не расстреляли, — очень буднично отвечает она.
Маму тоже арестовали и отправили их вместе в вятские лагеря, не предъявив никаких обвинений. Это было в первый день Пасхи 1943 года.
И таким, видимо, казалась она важным преступником, что в лагерь к ним с мамой приехала следственная бригада из Москвы во главе со старлеем.
— Они все никак не могли поверить, что я не мстила советской власти, я ведь была ЧСИР (член семьи изменника Родины), не состояла ни в пионерах, ни в комсомоле. И вот они все давили, чтобы я им что-то такое рассказала про свою какую-то тайную деятельность, чтобы изменника Родины из меня сделать.
Изменника сделать не удалось, и особое совещание, судившее ее заочно, присудило всего-то пять лет ссылки как социально опасному элементу. Это была большая удача — маме повезло на тот момент меньше, ей впаяли измену, и свою десятку мама оттрубила полностью.
Ссылка молодой женщине выпала неподалеку — в Республике Коми, в поселке с красивым, как бы иностранным названием Корткерос. Сначала на лесозаготовках, потом на трикотажной фабрике.
Я все пытаюсь понять, а как это — быть ссыльным? Что ты ешь, где спишь, с кем общаешься, насколько свободен?
И она рассказывает:
— Ссыльными в тех местах никого не удивишь, много нас там было. Я снимала угол в доме у людей, это разрешали. Каждый месяц мы отмечались у коменданта, а из поселка уходить было нельзя вообще, хотя бежать там некуда. В одну сторону — тайга, в другую — тундра. Всю одежду, которая у меня была из дома, я износила чуть не до дыр, юбка, помню, была одна — я вечером выстираю, утром натягиваю недосохшую — и на работу… Но у нас комендантша сама была из сосланных, у нее на складе хранились вещи умерших людей, вот она разрешила там что-то взять, так у меня оказалась половина суконной шали да еще кое-какая одежда. Скажу так: в этом смысле лагерь легче, чем ссылка, там все дают, а здесь самому приходилось выкручиваться.
Она не была писаной красавицей, но были у нее редкостной красоты волосы — тициановские, темное золото с рыжиной, брови черные вразлет, румянец во всю щеку. Ладная она была вся такая и стройная. Сейчас бы сказали 90-60-90. Я пытаюсь представить, каково это — быть молодой, полной сил, полной каких-то стремлений, желаний, надежд — и не иметь никакой возможности ничего осуществить, снимать угол, отмечаться у коменданта и стирать по ночам единственную юбку…
Не представляется.
А скоро случилась настоящая беда. Один вольнонаемный немец сказал, что он видел списки завербованных немецкой разведкой, и она была в этих списках. Где видел, как видел — так и осталось тайной. А ее под присмотром милиционера отправили пешком в Сыктывкар во внутреннюю тюрьму. Всего-то шестьдесят километров. Ноябрьскую эту дорогу она прошла в прюнелевых туфельках — это такие нежные тряпичные туфельки, в которых любили ходить бальзаковские героини. На прюнельки сверху были намотаны два куска шинельного сукна, завязанные вокруг ноги веревкой.
В Сыктывкаре ее ждал конвейер — четырнадцать суток без сна.
Мой сын-подросток спрашивает: «А как это, без сна?» «А вот так, — говорит она, — ночью везут на допрос, а днем — только пытаешься лечь, тут же стук в дверь: не спать! На допросе к спинке стула прислонишься — и тут же: Анна Васильевна, не спите!»
Волосы ее дивные в колтун свалялись, она налысо попросила себя обрить. Подписала, конечно, все — и что шпионка, и что завербована. В общем, на пятнадцать лет воркутинской каторги подписала — а не подписала, наверное, разума бы на конвейере лишилась. Фамилию следователя запомнила на всю жизнь. Гущин была его фамилия, а имя — Николай Николаевич.
Исчисляться каторга ее стала с 4 ноября 1945 года, на свободу вышла 18 февраля 1956-го по хрущевской амнистии. Все это время на шапке, правом колене и на спине она носила номер. Сначала на шахте — Ю683, потом в лагере — 2Н440.
Мама, освободившаяся чуть раньше нее, приехала в Воркуту. Так они там вдвоем и остались.
Выйдя на свободу, она решила держаться от чекистов подальше, не подавать ни на какую реабилитацию, не то чтобы забыть и простить, но как бы стать выше или даже вне. Продержалась двадцать лет, пока все-таки один друг-каторжанин не уломал написать в Военную коллегию Верховного Суда СССР.
20 августа 1973 года Анна Васильевна Крикун была реабилитирована за отсутствием состава преступления по всем статьям. Тогда же были реабилитированы ее мама и отчим. Перед этим к ней приезжал «важняк» из КГБ на беседу. У него в руках она и увидела папку со своим делом. На папке, как и положено, было написано: «Хранить вечно». Так они писали на всех папках всех зэков этой необъятной страны.
...После реабилитации годы работы в ссылке были зачтены ей как работа в тылу во время Великой Отечественной войны, и она стала ветераном труда. Получила медаль к пятидесятилетию Победы, потом еще две.
— А льготы? — спрашиваю я.
— Я взяла льготы как реабилитированная. Мне кажется, так честнее.
Она живет в Воркуте в компании двух рыжих котов. Иногда к ней забегают ребята и учителя из соседней школы, в которой есть отличный музей ГУЛАГа. Они-то меня с ней и познакомили.
P.S. Прюнелевые туфельки, как я понимаю, вообще-то предназначались для хождения на лекции в Институт философии, литературы и искусства.